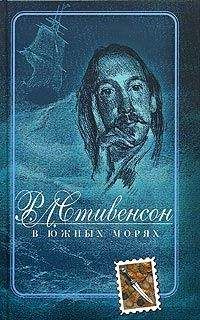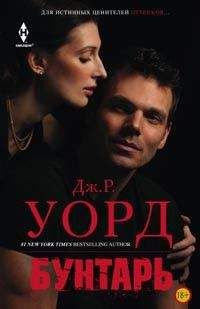Роберт Стивенсон - Уир Гермистон
Гиб послушался этого совета и возвратился в отчий дом с поспешностью, напоминавшей бегство. Самой яркой фамильной чертой, доставшейся ему в наследство, был молитвенный дар, о котором говорила Керсти; и теперь неудавшийся политик обратился к религии — или, как считали иные, к ереси и расколу. Каждое воскресенье он спозаранку приезжал в Кроссмайкл, где постепенно сколотил особую секту человек в пятнадцать, называвших себя «Последние у Бога истинно верующие» или коротко «Последние у Бога». Непосвященные же называли их просто «черти Гиба». Присяжный остряк городка Бейли Суиди клятвенно утверждал, будто их бдения начинаются всякий раз пением гимна «Да сгинет к Сатане акцизный!» и будто причащаются они горячим грогом. И то и другое было язвительным выпадом против их учредителя и главы, который в юности, как рассказывали, промышлял контрабандой спиртных напитков и однажды в ярмарочный день был якобы задержан с поличным прямо на улице того же Кроссмайкла. Было известно, что каждое воскресенье они молят бога о благословении Бонапартова оружия, и за это «Последних у Бога» ребятишки неоднократно побивали камнями, когда они расходились из дома, служившего им храмом, а самого Гиба как-то с улюлюканьем прогнал по улице эскадрон шотландских волонтеров, среди которых гарцевал в мундире и с саблей наголо его родной брат Дэнди. «Последних у Бога» еще подозревали в «антиноминализме», что в другое время могло бы считаться грехом весьма серьезным, но теперь в глазах общественного мнения было совершенно отодвинуто на задний план скандальным пристрастием к Бонапарту. А в остальном все устроилось благополучно. Гилберт установил в Колдстейнслапе свой ткацкий станок в одном из сараев и прилежно трудился за ним шесть дней в неделю. Братья, с ужасом относившиеся к его политическим взглядам, чтобы не сеять раздоров в доме, к нему обращались редко; а он к ним — и того реже, так как все свободное время штудировал Библию или молился. Но дети в Колдстейнслапе обожали тощего ткача, и он был у них за няньку. Иначе, как с младенцем на руках, улыбающимся, его не видели — в этой семье вообще улыбчивых не было. Когда жена Хоба подступалась к нему с уговором завести себе жену и собственных детей, раз уж он их так любит, он отвечал только: «У меня нет ясного взгляда на это дело». Если его не звали к обеду, он так и не приходил из своего сарая. Однажды невестка, недобрая, язвительная женщина, проделала такой опыт. Он целый день провел без еды, и только к вечеру, когда ему уже недоставало света, сам пришел в дом и немного смущенно признался: «С утра на меня нашло такое молитвенное вдохновение, что я даже не припомню, чем сегодня пообедал». Учение секты «Последних у Бога» нашло свое воплощение и оправдание в жизни ее основателя.
«И все же кто его знает, — говорила Керсти, — такая ли уж он сушеная рыба? Он тогда поскакал вместе со всеми и душой был с братьями заодно. „Последние у Бога“! Пустые слова. Хоб не очень-то по-божески разделался тогда с Джонни Диккисоном, это я точно могу сказать. Но бог их знает! Может быть, он и не христианин вовсе. Может, магометанин, или сам черт, или огнепоклонник, разве скажешь».
Имя третьего брата красовалось на дверной табличке, и не где-нибудь, а в городе Глазго. Прямо огромными буквами: «Мистер Клемент Эллиот». Тот самый дух новшества, который у Хоба проявился весьма скромно в использовании новых удобрений, а у Гилберта ушел впустую на крамольную политику и еретическую религию, Клему оказался на пользу, воплотившись в разных хитрых механических изобретениях. В детстве он вечно что-то мастерил из палочек и веревочек, за что слыл в семье чудаком. Но теперь об этом было уже забыто, он вошел партнером в фирму и рассчитывал умереть не иначе, как олдерменом. Он тоже женился и в шуме и копоти Глазго растил многочисленное семейство; рассказывали, что он в десять раз богаче своего брата-лэрда; и когда он выбирался в Колдстейнслап, чтобы вкусить здесь заслуженный отдых, что случалось не так-то уж редко, соседи дивились его сюртуку тонкого черного сукна, его бобровой шапке и глубоким складкам его черного галстука. Будучи по характеру человеком тяжеловесным, вроде Хоба, он, однако, приобрел в Глазго некоторую живость и апломб, которые выделяли его среди братьев. Все остальные Эллиоты были тощи, как жерди, Клемент же обрастал жирком и мучительно пыхтел, натягивая сапоги. «Да, у нашего Клема вес немалый», — посмеиваясь, говорил Дэнд. «В муниципальном совете Глазго», — парировал Клем, и остроумие его было оценено по достоинству.
Четвертый брат, Дэнд. стал пастухом и временами, когда мысли его не отвлекались другим, выказывал себя истинным мастером своего дела. Никто не умел лучше Дэнди выучить овчарку; никто не мог зимой, в стужу и в метель, сравняться с ним мужеством и самоотверженностью. Но если его искусство было выше похвал, то сказать то же самое о его усердии никак нельзя; он довольствовался тем, что работал на брата за стол и кров да за кое-какую мелочь на расходы, которую Хоб давал ему по первой его просьбе. Не то чтобы он не ценил денег, напротив; и отлично умел их потратить; умел заключить и очень выгодную сделку, когда у него душа к этому лежала. Но сознание собственного превосходства было для него важнее звонкой монеты в кармане; от него он чувствовал себя богаче. Хоб пытался его увещевать. «Я не настоящий пастух, а любитель, — отвечал ему Дэнд. — Я гляжу за твоими овцами, когда хочу, но свободой своей не поступлюсь. Никто не сможет посмотреть на меня свысока». Клем подробно объяснял ему чудесные свойства сложных процентов и соблазнял выгоднейшим помещением капитала. «Вот как? — отвечал Дэнди. — Ты что же, думаешь, если я возьму у Хоба денег, я их не пропью и не растрачу на женщин? Да и потом, мое царство не от мира сего. Либо я поэт, либо вообще никто». Если же Клем заговаривал о старости, Дэнд гордо прерывал его: «Я умру молодым, как Робби Бернс». Он и в самом деле недурно владел малыми стихотворными формами. Его «Стансы Гермистонскому ручью» с изящным рефреном:
Люблю бродить, мечтая, где ты журчишь, пробегая,
Под горой, Гермистонский ручей, -
а также его песня:
О, Эллиоты минувших дней,
Спящие каждый в могиле своей,
Не было в мире храбрее людей,
Чем Эллиоты минувших дней, -
и в особенности его действительно прекрасные стихи о Камне Ткача-Богомольца заслужили ему в округе еще не исчезнувший в Шотландии титул местного барда; и хоть сам он не печатался, другие, кто печатался и пользовался славой поэтов, признавали его и ценили. Вальтер Скотт обязан Дэнди Эллиоту текстом своего «Набега Уири» из «Шотландского барда», он принимал его у себя в доме и отозвался о его дарованиях со своим всегдашним великодушием. С «Эттрикским Пастушком» они были в сердечной дружбе; встречаясь, напивались, ревели друг другу в лицо стихи, ссорились, мирились, снова ссорились — и так до поздней ночи. А помимо этой, почти официальной дани признания, Дэнди пользовался за свой талант любовью соседей и был дорогим гостем в каждом доме на много миль вокруг, отчего проистекали всякого рода соблазны, которых он скорее искал, чем бежал. Он даже сидел на скамье покаяния в церкви, буквально повторив этим удел своего любимого героя. Написанные им по этому поводу стихи к пастору Торренсу — «на посмешище всем одиноко стою», — к сожалению, чересчур вольные, чтобы приводить их здесь дальше, обежали всю округу с быстротой огненного телеграфа; их читали, перефразировали, на них ссылались, над ними хохотали повсюду от Дамфриса до Дунбара.