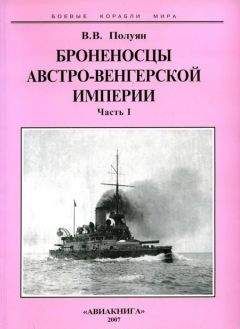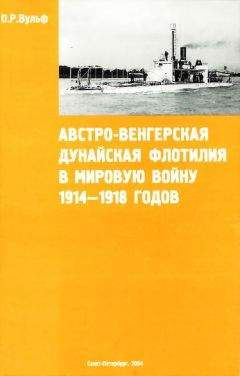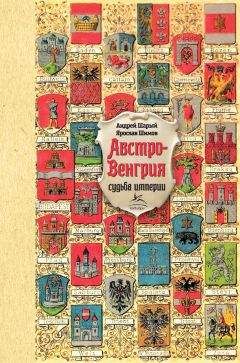Джон Биггинс - Австрийский моряк
Торпедные стрельбы являлись на U-8 операцией деликатной — в этом мы убедились в ходе недели учебных атак в проливе Фазана. Для компенсации веса выпущенной торпеды имелась система цистерн и клапанов, но срабатывала она с изрядной задержкой, а тем временем выравнивать лодку в подводном положении было очень непросто. В конечном счете мы выработали метод как воспрепятствовать нашему носу показаться на поверхности после залпа. Он заключался в том, что восемь человек занимали позицию позади торпедных аппаратов. После пуска каждой торпеды отряд из четырех моряков бегом устремлялся вперед, чтобы сбалансировать лодку. Отсчитав до пяти, чтобы дать время компенсационным цистернам заполниться, они стремглав мчались обратно.
Но невелик успех просто выпустить торпеду. Ей надо еще во что-то попасть. Той весной пятнадцатого года на борту U-8 шли постоянные дебаты о том, насколько велик наш шанс подобраться к врагу достаточно близко, чтобы отважиться на выстрел. Лодка была оснащена двумя перископами: прибором Герца с головкой с кофейник величиной и куда более совершенным, сделанным в Германии боевым перископом Цейса, сужавшимся в верхней своей части до толщины черенка от мотыги. Система спуска-подъема оптики тоже работала далеко не лучшим образом — при опускании перископа воздух из пневмоцилиндров поступал внутрь корпуса субмарины. В результате через пару часов спусков и подъемов перископа в лодке накапливалось значительное чрезмерное давление. Мы обнаружили это явление однажды утром, когда всплыли на поверхность и Бела Месарош открыл люк в рулевую рубку. Последовали громкий хлопок, резкий удар по барабанным перепонкам и вой, с которым фрегаттенлейтенант — мужчина весьма дородный — вылетел через люк подобно тому, как пробка вылетает из бутылки шампанского. По счастью, травм он не получил, и когда мы втащили его на палубу, был только мокр и раздражен. Но после этого я предпочитал не убирать перископ, а опускать лодку ниже, а моряка, отдраивающего люк после продолжительного погружения, обязательно держал за лодыжки стоящий на трапе товарищ.
Навигация на U-8 тоже оставляла желать лучшего. Впрочем, «навигация» слово слишком громкое для метода, которым мы перемещали нашу лодку из одного пункта в другой, будь то над или под поверхностью моря. Помимо секстанта единственным навигационным прибором на борту был магнитный компас. Предоставляю вам самим вообразить, как работал магнитный компас внутри стального корпуса, начиненного электрическими кабелями и имеющими мощное поле электромоторами. Двадцати, а то и тридцатиградусное отклонение от линии магнитного севера никого не удивляло. Нам воистину повезло, что U-8 оперировала по большей части в родных водах, прекрасно известных мне и старшему офицеру по годам рутинной службы на миноносцах. А если нашего знания местных ориентиров не хватало, мы всегда могли положиться на опыт далматинских моряков. Среди членов экипажа обязательно находился способный опознать тот или иной остров — на деле, на нем обычно обитала какая-нибудь тетя или двоюродная сестра. Ну и конечно, если ни один способ не срабатывал, мы всегда могли окликнуть рыбачью лодку и спросить дорогу.
Но самой большой бедой U-8 были двигатели надводного хода. Если точнее, не сами двигатели — хотя, Бог свидетель, хлопот они доставляли немало, — а бензин, на котором они работали. Пары бензина стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они впитывались в одежду, волосы и кожу, постепенно, как казалось, просачиваясь в каждую клеточку наших тел. При всем старании нам так и не удалось сделать топливопроводы и карбюраторы абсолютно герметичными, а хватало ничтожной утечки, чтобы насытить парами и без того душную и смрадную атмосферу внутри лодки, вызывая в высшей степени неприятные и непредсказуемые последствия. Опасность не ограничивалась риском пожара или взрыва — существовала зловещая угроза отравления парами бензина, бенциншваммер. Она подкрадывалась исподволь, и в один прекрасный миг половина моряков засыпала прямо на постах, а вторая половина начинала нести безумный бред.
Проблема заключалась не только в незаметном наступлении отравления, но и в широком разнообразии симптомов и в том, что каждый страдал от него по-своему. У меня, помнится, оно обычно начиналось со сладковатого привкуса во рту, за которым быстро следовала сонливость, затем приходила ноющая головная боль, появлялось желание пойти и повеситься на ближайшем крюке для койки. У других имело место внезапное головокружение или дикое, истеричное возбуждение, сопровождающееся быстрым сердцебиением, блеском в глазах и учащенным дыханием. В крайней форме опьянение заявляло о себе в виде белой горячки, единственным средством от которой было тут же всплывать на поверхность, вытаскивать пострадавших за руки и за ноги на палубу и оставлять на свежем воздухе. Пациенты тем временем несли несусветную чушь: параграфы из академических учебников перемежались с отрывками из оперетт и чтением молитвенных часов. Однажды утром, близ итальянского побережья к югу от Пескары, сильное отравление парами бензина вынудило нас всплыть на поверхность прямо средь бела дня, почти под килем у маленькой итальянской торговой шхуны. Ее экипаж перепугался до смерти и сдался сразу — очень удачно, поскольку к этому моменту только трое из нас могли стоять на ногах. Мы отбуксировали шхуну к Лиссе в качестве приза, и я никогда не забуду удивление на лицах итальянцев, с которым они смотрели на одиннадцать человек, лежащих вповалку на палубе, разговаривающих сами с собой и беспомощных как цыплята.
Единственным из нас, кто проявлял устойчивость к отравлению парами бензина, был фрегаттенлейтенант Месарош. Он, как правило, последний лишался чувств, и приписывал этот относительный иммунитет привычке делать перед погружением добрый глоток из своей фляжки. Впервые наблюдая сей ритуал, я не был обрадован, потому как считал погружение на U-8 достаточно рискованным и без наличия на борту старшего офицера «под градусом». Месарош заверил меня, однако, что во фляжке всего лишь специальный бензиновый антидот: а именно настойка из красного перца на бараке — крепчайшем венгерском бренди из абрикосов. Я сделал один глоток — эксперимента ради — и тожественно поклялся — когда снова смог дышать, — что никакие силы в мире не заставят меня сделать второй. После этого я разрешил ему пользоваться этим самодельным профилактическим средством, понимая, что никто не станет принимать это жуткое пойло иначе как из медицинских соображений.
Постоянное вдыхание бензиновых паров оказывало на некоторых из нас и иное, еще более неприятное влияние. Однажды утром в начале мая я заступил на дневное дежурство на борту «Пеликана», где мы обитали, когда не находились в плавании. Служба была обычная: подписывать рапорты, выслушивать жалобы, принимать прошения об увольнительных, выдавать или удерживать суммы из жалованья и так далее — короче, привычная рутина корабельной жизни, которая почти одинакова что в военное время, что в мирное. Один человек упорно ждал, желая поговорить со мной. Это был матрос второго класса Димитрий Горочко. Принадлежал он к нации, которую мы называли русинами, а вы, в наши дни, украинцами. Горочко был человеком сдержанным, даже замкнутым, с лицом рыхлым как непропеченный каравай. Однако в тот день оно светилось от обиды словно фонарь из тыквы. Он вошел и отдал честь. В императорской и королевской армии существовало строжайшее правило, что любой военнослужащий имеет право быть выслушанным офицером, говорящим на его языке. Я владел семью из одиннадцати языков монархии, однако мой украинский — хоть понимал я его неплохо — оставлял желать много лучшего. Но оказалось, что Горочко решил расположить начальство к своей жалобе, обратившись к нему по-немецки.