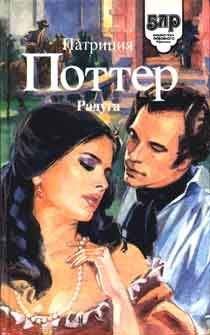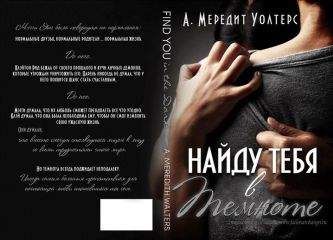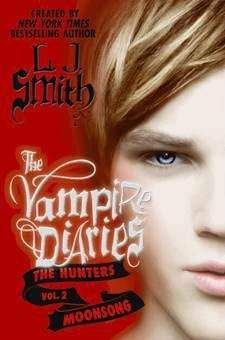Нина Соротокина - Трое из навигацкой школы
Однажды его обидели. Дознания не выявили имени обидчика, сам Шорохов его не помнил, некоторые утверждали, что его не было вовсе. Но пьяный сторож, у которого всегда была про запас обидчица — собственная горькая судьба, обежал с дубиной всю школу, потом сорвал со стены учебное пособие — абордажный топор — и, призывая восторженно носившихся за ним курсантов «не спускать вымпелы и марсели перед неприятелем», бросился крушить школьное имущество. Он высадил два окна, порубил шеренгу стульев, расколол пополам глобус и чуть было не задушил Котова, который в одиночку (всегда больше всех надо правдолюбцу!) стал подавлять бунт. Шорохова с великим трудом угомонили, абордажный топор спрятали, а на его место повесили другое учебное пособие — канат, чтоб в случае необходимости вязать буйного пьяницу. Котов хотел выгнать сторожа, но директор его пожалел и оставил в прежней должности за патриотический дух и пряные морские рассказы.
Шорохов был прирожденным рассказчиком. Героями его повествований были он сам, живые и покойные товарищи его, крутые и добрые капитаны, а чаще корабли. О них он рассказывал, как о живых людях, описывая всю жизнь от рождения где-нибудь на Партикулярной верфи, когда нарядный и юный корабль сходил со стапелей, до смертного часа под огнем неприятельских ядер, до рваных в клочья парусов и неизлечимых пробоин, с которыми уходил он от житейских бурь в морскую глубину.
Чтобы послушать сторожа, курсанты часто вскладчину покупали бутыль дешевого воложского вина и шли в каморку под лестницей, поэтому никого не могло удивить, что князь Оленев и Саша Белов проводят вечер в обществе убогого, отставного бомбардира.
Шорохов уже съел изрядную часть индейки, принесенной Никитой, разогрелся ромом, снял опояску с ключами, бросил на стол и, покуривая трубку, продолжал рассказ. Слова его, словно цветные кубики смальты, послушно ложились один к другому, а жест и оттенки голоса скрепляли их, подобно цементу, и создалась мозаичная картина ушедшей жизни, картина, которая не жухнет от света, не боится сырости, огня и воды.
— Я в молодости некрасивый был, щуплый. Сейчас я не в пример шире, рука только плохо слушается. И вот стою у фок-мачты, трясусь, как оборванный шкот на ветру, а стюрман вопрошает: «Он убийца? Он?» — и в матроса этого, каналью, пальцем тычет.
— Подтвердил? Рассказал, что видел? — нетерпеливо перебил Никита. — Слово, как кость, в горле застряло. И ненавижу я убийцу, из за кошелька человека ножом пырнуть! Мыслимо ли? И жалко мне этого негодяя — знаю ведь, что его ждет. Тем временем труп принесли, и как стали убийцу с убиенным им снастить, тут меня и прошибло. Поднялась во мне волна, и я бегом к борту травить, все кишки наизнанку вывернул. А на корабле шум! Убийца не дает себя к мертвецу привязать, кусается, орет, а стюрман еще громче: «Кончайте скорее! — кричит, — невозможно этого видеть!» И рукояткой кортика убийцу по виску — раз! Тот и затих.
Белов показал глазами на ключи. Никита кивнул, вижу, мол, погоди… Сторож шумно глотнул из глиняной чарки, утерся рукавом.
— Бросили их за борт, и, как мне показалось, очень долго они летели. Все-то я рассмотреть не успел. Связаны они были спинами, веревки на груди крест-накрест, ступни ног у мертвого судорогой сведены, а у другого — мягкие, и одна ступня покалеченная, без единого пальца — то-то он хромал. Я чуть было за ним не упал, да стюрман поймал за штанину. «Молодец, — говорит, — Шорохов, уличил убийцу!» А я уж глаза закатил.
Никите вдруг гадко стало, что поят они старого человека и про жизнь его расспрашивают не из интереса, а чтобы заговорить, отвлечь. Он налил себе рому и выпил залпом. Белов посмотрел на него удивленно, но Никита, будто так и надо, закусил луковицей, вытер заслезившиеся от едкого сока глаза и сказал:
— И правильно сделал, что уличил. Так этому негодяю и надо. А дальше что было?
— Василий, — не вытерпел Саша, — почему у тебя так много ключей? У нас в школе и дверей-то столько нет. — Это первый этаж, — провел сторож по связке пальцем, — это второй, это канцелярия, потом кабинет их сиятельства, обсерватория, рапирный зал… Много. Белов взял связку, заинтересованно позвенел ключами и незаметно исчез. Когда через полчаса Саша вернулся назад, Шорохов и Никита были совершенно пьяны. — Я прыгнул в воду. Вода ледяная — октябрь! За мной и солдаты в воду попрыгали. А солдат, известное дело, моря боится. Ему все равно, что сам государь спасать их подлые души прибыл.
Историю эту о том, как в версте от Лахты сел на мель бот, идущий из Кронштадта, и как император Петр по пояс в воде добрался до бота и спас людей, знали все в навигацкой школе наизусть. После этого вояжа государь простудился и слег, чтобы больше не встать.
— И уснул от трудов Самсон Российский, — подсказал Саша заключительную фразу, уже ставшую в школе пословицей.
— Тебе этого не понять, — сказал Шорохов строго. — Был у России флот да нет его. Почил царственный Адмирал! — И сторож захлебнулся пьяными слезами.
— Ты мне вот что, друг Василий, скажи. — У Никиты падала голова, и он двумя руками поддерживал ее в вертикальном положении. — Почему русские пьют так невесело?
— А чего веселиться-то?
— Француз — тот пьет шампанское и весь ликует.
— Это он по глупости. Немцы не радуются.
— Так они и не пьют! — весело сказал Саша и похлопал себя по груди, давая Никите понять, что похищение паспорта удалось.
— Ключи давай, — сказал сторож.
Саша смутился. Он был уверен, что Шорохов не заметил отсутствия ключей. Сторож допил чарку до дна, сунул ключи в карман и ушел, приговаривая:
— Ликует! Полчаса поликуешь, а потом посмотришь вокруг ма-ать честная!..
У Никиты не шли ноги. Он всем телом наваливался на Сашу и невнятно бормотал:
— Горло болит… Посмотри, Сашка, а? Или у меня здесь не горло?
Белов еле дотащил его до квартиры. Гаврила всполошился, уложил барина в кровать.
— Никита Григорьевич, батюшка родимый, да как же…? — причитал камердинер, поднося к носу барина нашатырный спирт.
Но тот мотал головой, отпихивал Гаврилу и все толковал про кость в горле, про труп с покалеченной ногой, про море, красное на закате. У него поднималась температура.
На следующее утро Белов рано явился в школу. — Фома Игнатьевич, ты обронил давеча, — сказал он писарю, встретив его в коридоре, и, не замедляя шага, сунул ему в руки синий платок.
Писарь быстро оглянулся по сторонам, ощупал платок, снял парик и отер вспотевшую вдруг лысину и только после этого спокойно пересчитал деньги.
14
Всю ночь Никита метался в жару. Гаврила менял компрессы, вливал в рот больного освежающее питье и мучился вопросом — самому ли делать кровопускание, которое он никогда не делал, или дождаться дня и позвать лекаря. Кровопускание сделать он так и не решился, но задумал на будущее купить скальпель и выучиться всем хирургическим приемам.