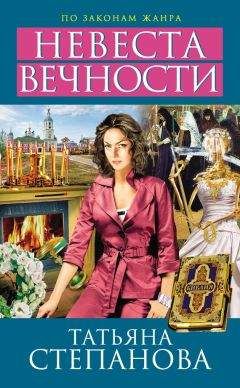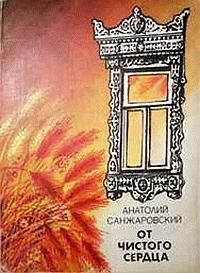Мэри Рено - Тезей
Я восхитился ее политическим тактом. Это должно было понравиться: ведь афиняне боялись старой религии, а в Элевсине — каждый знает — ее обряды исправлены… Так что я не стал препятствовать ей, хоть и видел в этом прежде всего заботу о сыне. Она была у нас слишком одинока, а теперь могла бы подружиться с кем-нибудь из женщин… И вообще, с чего я взял, что Ипполит передумает? А если нет?.. Иногда мне хотелось, чтобы парни уладили это дело меж собой, никому не сказав ни слова, как-нибудь у костра во время охоты. Молодым бывает трудно подчиняться своим родителям, они должны до всего дойти сами… Так что же остается, кроме как оставить всё это богам?.. Но я по характеру предусмотрителен, и потому продолжал планировать, хоть и знал что бесполезно.
В надлежащие дни она пошла вместе с другими женщинами научиться обрядам очищения. Ей сказали там, от чего она должна воздерживаться… В числе прочего была и наша постель. Это был ее пост — не мой, — а с Сицилии я привез одну темно-медовую девчушку, искусную в танцах Афродиты… Ради мира в доме я не держал ее на виду, но сейчас был рад снова встретиться с ней.
За два дня до обрядов, участники Таинства вернулись в Афины, чтобы жрецы могли организовать торжественное шествие. Вести молодежь я назначил Ипполита, поскольку его брат был еще слишком мал. Если б я попросил, для Акама пошли бы на уступки; но никто не мог сказать, что я его обидел. Народная хвала в великие дни празднеств — это крепкое вино; если Ипполит хлебнет добрый глоток его — быть может он лучше себя поймет…
Он появился среди самых последних, когда на Агоре уже было полно народу. Хоть он и похудел — глаза его светились, и кожа была чиста… Умылся и причесался он, как маленький, который делает это по обязанности и предпочел бы вместо этого поиграть, но всё равно — будто сиял. И казался счастливым… Мне подумалось: «Вот я посеял это семя жизни, а из него выросла тайна — жизнь, в которой я чужой. Пути богов неисповедимы…»
Потом я был занят, как всегда перед началом праздника… А когда выехал на колеснице и повел к храму афинских мужей, — юноши уже ушли, и унесли с собой изображение бога-жениха и священные предметы.
По дороге я вспоминал свое собственное посвящение. Я был последним, кто принимал участие в прежнем Таинстве, и первым — в нынешнем. Хоть от жрецов и от поэта я знал частично, что там будет, но все-таки в Таинстве была большая сила: и мрак и страх, и свет и радость… Прошедшие годы со всеми их делами и заботами стерли это в памяти; но теперь я вновь вспомнил те обряды и думал о сыне, которому предстояло через них пройти. А что он сделал бы со старыми? Смертельная схватка перед глазами Царицы, сидевшей на троне; и брачное ложе в темной пещере, и бесстыдный свет факелов… Он бы покраснел и сбежал в горы?.. Однако он не мог не слышать об этом: она — кому он служит — не всегда дева, и она любит чтобы фимиам курился перед каждым обликом ее… А он — он более мужчина, чем большинство мужчин; и когда-нибудь невеста скажет ему: «Неужто мой алтарь останется вечно холодным?»
Была чудесная ясная ночь. Внизу все сняли одежды — мужчины и женщины — и вошли с факелами в море. Это был последний обряд их очищения; когда-то он смывал с них кровь убитого царя. Он и тогда был серьезен и пристоен, а насколько это торжественно сейчас — знает весь мир… Долго впереди был факел жреца, потом другой обошел его — его нес кто-то высокий, кто мог войти дальше… Свет факелов удваивался их отражением в воде, и где-то среди этих блуждающих огней была Федра. Она была с Благой Богиней, наверняка, и не могла там набраться ничего дурного.
Огни погасли. Внизу всё стихло — там переодевались пока… Сквозь мрак я видел с крепости лишь шевеление смутных теней; они выстраивались для священного шествия… А тем временем все проходы в скалах были перекрыты, чтобы сохранить секреты Таинства. Потом в глубокой тишине возникли звуки песнопения, — сладкозвучные и полные печали, — слов не было слышно на таком расстоянии… И снова ночь упала в тишину… Где-то завыла собака, — собаки часто воют, когда чувствуют торжественность, — потом взвизгнула и смолкла… Затихло всё.
Пришло время умирать, — Дважды Рожденные меня поймут, — и я снова думал о мертвой, и снова душа моя умерла вместе с ней. Наконец откуда-то из глубин земли ударил гонг, глас тьмы, — даже на таком расстоянии он внушал ужас… Но во мне не было страха. Ни страха, ни надежды.
Но вот во тьме возникло яркое чистое сияние. Молчаливое изумление, потом крики радости, потом гимн… Словно светлячки, разлетались из пещеры вновь зажженные факелы — и начался танец. Я смотрел на него до самой зари, своей неутомимой неизменностью он был похож на движение звезд… На горах забрезжил рассвет, и я повел народ вниз — встретить посвященных и привести их домой.
А когда появилось солнце и проложило сверкающую дорогу по морю к Афинам, они встретили нас на берегу, одетые в новые белые одежды, в венках из пшеничных колосьев и цветов… Их лица — такие лица можно увидеть каждый год: еще слегка ошеломленные всем пережитым — страхом и восторгом… Те, кто заранее боялся обрядов, те были просто рады, что всё уже позади; другие были счастливы, что заслужили счастливую судьбу в Стране за Рекой… Я глянул на молодежь, на того, кто шел впереди всех. Думал, он всё еще в трансе своих видений, — нет, он с восторгом смотрел вокруг, словно всё было ему дорого и мило… На лице его было великое спокойствие и мягкое удивление и нежность… Но нежность — мудрого, старшего… Представьте себе взрослого человека, который видел только что, как детишки, спотыкаясь, запинаясь, пытались что-то изобразить… играли во что-то торжественное, великое… Они не могут постичь истинный смысл своей игры; они сами не знают, насколько она была прекрасна, — это лишь он, взрослый, знает… Вот так он выглядел.
Я произнес ритуальное приветствие, жрец ответил… Посвященным пора было разговеться в кругу друзей… Когда Ипполит, улыбаясь, подошел ко мне — солнце перечеркнули чьи-то широкие крылья. Громадный ворон, слетевший со скал, остановился над нами в воздухе так низко, что был виден пурпурный отсвет на его груди, словно эмаль на драгоценном мече. Люди показывали его друг другу, заспорив о смысле этого знамения… А парень просто любовался им — счастливый и спокойный, казалось он не видел там ничего, кроме красоты, распростертой в вышине. Ворон опустился ниже — он протянул руку, словно приветствуя птицу; и та почти коснулась его пальцев, а потом улетела в сторону Саламина, к морю.
Мне стало не по себе слегка — я следил за полетом птицы, — но шум среди женщин меня отвлек. У Федры поникла голова, ее отпаивали вином… После поста, и целой ночи на ногах, и переживаний во время обрядов — при Таинстве всегда одна-две женщины падают в обморок. В тот раз их оказалось четыре — что с того?.. И я забыл об этом.