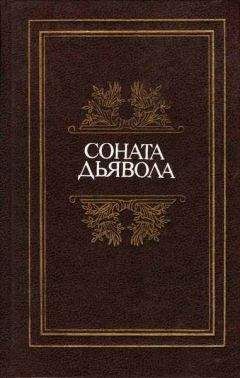Александр Дюма - Полина
Я не ошиблась. Приготовления к вечеру, веселая беззаботность молоденькой девушки, которой я никогда еще не теряла, ожидание бала в такое время, когда их бывает мало, заслонили невольный ужас, овладевший мной, и устранили призрак, преследовавший меня. Наконец желанный день наступил: я провела его в какой-то лихорадке, которой никогда прежде не замечала во мне мать; она была счастлива, видя мою радость. Бедная мать!
Когда пробило десять часов, я, прежде такая медлительная, была уже готова. Наконец мы отправились. Почти все наше зимнее общество возвратилось, подобно нам, в Париж для этого праздника. Я нашла там своих подруг по пансиону, своих всегдашних кавалеров и даже то веселое, живое удовольствие, которое с год или два начинало для меня уже меркнуть.
В танцевальном зале была ужасная теснота. По окончании кадрили графиня М. взяла меня за руку и, чтобы избавиться от жары, увела меня в комнату, где играли в карты. Это было любопытное зрелище: все аристократические, литературные и политические знаменитости нашего времени были там. Я знала многих из них, но некоторые были мне неизвестны. Госпожа М. называла мне их, сопровождая каждое имя замечаниями, которым часто завидовали самые остроумные журналисты. Войдя в один зал, я вдруг вздрогнула, сказав невольно: «Граф Безеваль!»
— Да, это он, — отвечала госпожа М., улыбаясь. — Вы его знаете?
— Мы встречали его у госпожи Люсьен в деревне.
— Да, — сказала графиня, — я слышала об охоте, о приключении, случившемся с молодым Люсьеном. Не правда ли?
В эту минуту граф поднял глаза и заметил нас. Что-то вроде улыбки мелькнуло на его губах.
— Господа, — сказал он своим партнерам, — позвольте мне оставить вас. Я постараюсь прислать к вам вместо себя четвертого.
— Вот прекрасно! — сказал Поль. — Ты выиграл у нас четыре тысячи франков и теперь пришлешь вместо себя того, кто не проиграет и десяти луидоров… Нет! Нет!
Граф, готовый встать, опять сел. После сдачи он поставил ставку; один из игроков удержал ее и открыл свою игру. Тогда граф бросил свои карты, не показывая их, сказал: «Я проиграл» — и отодвинул от себя золото и банковские билеты, лежавшие перед ним, и опять встал.
— Могу ли теперь оставить вас? — спросил он.
— Нет еще, — возразил Поль, подняв карты графа и смотря на его игру, — у тебя пять бубен, а у твоего противника только четыре пики.
— Сударыня, — сказал граф, обращаясь в нашу сторону и адресуясь к хозяйке, — я знаю, что мадемуазель Евгения будет просить сегодня на бедных. Позволите ли мне первому предложить свою дань?
При этих словах он взял рабочий ящик, стоявший возле игорного стола, положил в него восемь тысяч франков, лежавшие перед ним, и подал его графине.
— Но я не знаю, должна ли принять, — отвечала госпожа М., — такую значительную сумму?
— Я предлагаю ее, — возразил, улыбаясь, граф, — не от себя одного; большая часть ее принадлежит этим господам, и их-то должна благодарить мадемуазель Евгения от имени покровительствуемых ею.
Сказав это, он пошел в танцевальный зал, а ящик, наполненный золотом и банковскими билетами, остался в руках графини.
— Вот один из оригиналов, — сказала мне госпожа М. — Он увидел женщину, с которой ему хочется танцевать, и вот цена, которую он платит за это удовольствие. Однако надо спрятать ящик. Позвольте мне проводить вас в танцевальный зал.
Едва я села там, как граф подошел ко мне и пригласил танцевать.
Мне тотчас вспомнились слова графини. Я покраснела, подавая ему свой листок, в который уже были вписаны шесть кавалеров. Он перевернул его и, как будто не желая видеть имя свое рядом с другими, написал на верху страницы: «На седьмую кадриль». Потом возвратил мне, сказав несколько слов, которых от смущения я не смогла расслышать, и, подойдя к дверям, прислонился к ним. Я была почти готова просить мать оставить бал; я дрожала так сильно, что, казалось, не могла держаться на ногах. К счастью, в это время раздался летучий и блестящий аккорд. Танцы отменялись. Лист сел за фортепьяно.
Он играл Invitation a la valse de Weber.
Никогда искусный артист не достигал такого совершенства в исполнении, или, может быть, никогда моя душа не была так расположена к этой музыке, страстной и грустной; мне казалось, я слышу в первый раз, как умоляет, стонет и разбивается страдающая душа, которую автор «Фрейшуца» растворил во вздохах своей мелодии. Все, что только музыка, этот язык ангелов, может выразить — надежду, горесть, грусть, — все было соединено в отрывке, вдохновенные вариаций которого следовали за мотивом как объяснительные ноты. Я сама часто играла эту блестящую фантазию и удивлялась теперь, слыша ее вновь созданной другим и находя в ней такие вещи, о которых не подозревала. Был ли причиной тому удивительный талант, воспроизводивший их, или новое состояние моей души? Искусная ли рука, скользившая по клавишам, так далеко углубилась в рудник, что открыла в нем жилки, незаметные для других, или сердце мое получило такое сильное потрясение, что дремавшие в нем чувства пробудились?
Во всяком случае, действие было волшебное; звуки волновались в воздухе и наполняли меня мелодией. В эту минуту я подняла глаза — взгляд графа был устремлен на меня. Я быстро опустила голову, но было поздно, даже не видя его глаз, я чувствовала взгляд, тяготивший меня; кровь бросилась в лицо, и невольная дрожь охватила меня. Вскоре Лист встал, и я услышала восторженный шум людей, окруживших его. Я подумала, что, вероятно, и граф оставил свое место. И в самом деле, подняв голову, я не нашла уже его у двери, но не осмелилась продолжать дальше свои поиски, потому что боялась опять встретить его взгляд и хотела лучше не знать, что он был там.
Через минуту тишина восстановилась. Новый исполнитель сел за фортепьяно; я услышала предостерегающее «Тише!» в соседних залах и заключила, что любопытство сильно возбуждено, однако не смела поднять глаза. Резкая гамма пробежала по клавишам, за нею последовала полная и печальная прелюдия, потом звучный и сильный голос запел под мелодию Шуберта: «Я все изучил: философию, право и медицину; рылся в сердце человека; спускался в недра земли; придавал уму своему крылья орла, чтобы витать под облаками. И к чему привело меня это долгое изучение? К сомнению и унынию. Правда, я не имею уже ни мечты, ни недоумения; я не боюсь ни Бога, ни сатаны, но я купил эти выгоды ценой всех радостей жизни».
При первом слове я узнала голос графа Безеваля. Вы легко поймете, какое впечатление должны были произвести на меня эти слова Фауста в устах того человека, который пел их. Впрочем, он подействовал одинаково на всех. Минутное глубокое молчание воцарилось за последней нотой, которая улетела, жалобная, как скорбящая душа; потом бешеные рукоплескания раздались со всех сторон. Я осмелилась взглянуть на графа. Для всех, может быть, лицо его было спокойно и бесстрастно, но для меня легкий изгиб его губ ясно показывал то лихорадочное волнение, которое однажды овладело им во время посещения нашего замка. Госпожа М. подошла к нему, чтобы высказать свое восхищение, и тогда он принял улыбающийся и беззаботный вид человека, повелевающего умами, самыми строгими к приличиям света. Граф Безеваль предложил ей руку и сделался таким же, как и все; по манере, с которой он смотрел на нее, я заключила, что он делает комплименты ее туалету. Продолжая говорить с ней, он бросил на меня быстрый взгляд, который встретился с моим; я едва не вскрикнула, так была им испугана. Без сомнения, он увидел мое состояние и сжалился, потому что увлек госпожу М. в соседний зал и остался там с ней. В ту же минуту музыканты дали знак к танцам; записанный первым мой кавалер бросился ко мне. Я машинально взяла предложенную руку, и он повел меня танцевать. Вот все, что я могу вспомнить. Потом следовали две или три кадрили, в течение которых я немного успокоилась; наконец танцы остановились, чтобы опять дать место музыке.