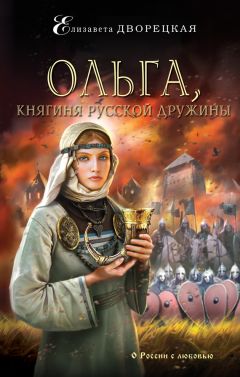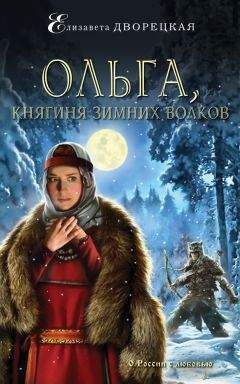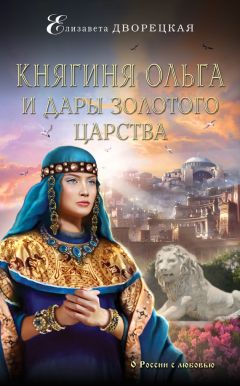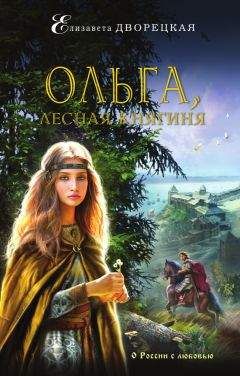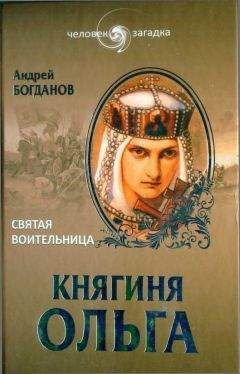"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
– Только мать. Орлец во дворе ждал, Влатта не поняла сама, в чем провинилась. Но я велел ее вовсе со двора не выпускать и ни с кем из чужих говорить не давать.
– Как ты это вез, никто не видел?
– В сорочку завернуто было.
– Смотри, Пестряныч: молчи, как покойник! – как и Фастрид, убедительно попросил Мистина. – Еще того мне не хватало, чтобы в тебя начали камнями швырять! Тогда я уж верно сам кому-нибудь шею сверну, не удержусь! Вот у меня уже где все это!
Мистина резко провел пальцем под горлом. Торлейв опустил углы рта: понимаю, дескать, – и отвел глаза. Чувствовал себя поневоле виноватым: подвел Свенельдича. За те несколько лет, пока родные дети Мистины жили на севере, он привязался к умному и бойкому отроку куда сильнее, чем Асмунд, у которого своих детей от трех жен был полон дом. Возвращение Велерада и Свена в Киев не сделало эту привязанность меньше, и Торлейв чувствовал себя за нее обязанным Мистине. И вот – так осрамился…
– И знаешь про что девку свою спроси? – Мистина набрел на еще одну мысль. – Не спрашивал ли ее Хельмо про баб-чародеек? Не водила ли она его к Плыни? Может, упоминала о ней, дорогу рассказала?
– Да едва ли она знала бабу Плынь. Мать не пустила бы ее по ворожейкам ходить. Но спрошу, чего уж?
– Нужно сравнить, точно ли отсюда, – сказала Эльга. – Где у тебя то жабье одеяльце?
Мистина послал хирдмана к себе домой за одеяльцем. Привезли, приложили – по величине и разрезу совпало полностью. Еще раз рассмотрели отрезанный кусок.
– Похоже, его золой или песком потерли, – сказал Мистина. – Грязнее стал.
– И страшнее! – Браня выпучила глаза.
– А это что у тебя за библосы? – спросила Эльга. – Там не про демона Ортомидия, что из могилы вылез?
– По Ахиллеуса там, что мог стать новым богом, неба владыкой, но родился от смертного отца и стал всего лишь витязем величайшей славы! – с досадой ответил Торлейв.
– Витязем? Это любопытно. Он был царский сын?
– Ну еще бы! Пошел с другими царями на войну, а там его старший царь обидел: отнял у него девку-полонянку, а Ахиллеус не стерпел и говорит: коли вы так, я вовсе за вас воевать не стану и домой ворочусь…
– Ой, расскажи! – взмолилась Браня, а Торлейв вздохнул: конечно, ей любопытно про спор царей из-за пленной красавицы!
– Давай после!
– Я хочу сейчас!
Торлейв закатил глаза: только не хватало сейчас пробираться через тяжеловесные старинные речения, предназначенные, как сказала Акилина, для пения под гусли… или что там было у них? Но Браня смотрела так умоляюще, что он вздохнул и взялся за тетрадь. Мелькнул коварный умысел: если читать ей как есть, она скоро соскучится и заснет…
– «Воспой, богиня, пагубоносный Пелеусова сына Ахиллеуса гнев, который тысящныя на ахеян навлекл беды… – начал Торлейв, читая по-гречески в уме и тут же перелагая на славянский. – И многия храбрыя ироев… витязей души низвергли в Аид»… Как это сказать – в Навь? В Кощное? В Валгаллу, скорее, раз их на войне убили? «Оставя тела их в брашно птицам и псам на растерзание…» Нет, так с телами достойных воинов не поступают. «Зевсово то изволение тако совершалося: егда Агамемнон сын Атреев, царь народов, и божественный Ахиллеус непримиримою возгорелися враждою»… Позовите из греков кого-нибудь, пусть отец Агапий вам почитает, – взмолился Торлейв. – Нет у меня сил сейчас эту мутотень терпеть!
– Я отца Ставракия попрошу, – обиженно сказала Браня. – Он добрый, никогда не откажет!
– Не показывать бы ему эти кожи! – Мистина кивнул на обрезанный лист.
– Отец Ставракий не выдаст, – сказала Эльга. – Он по себе знает: злыдни вас обоих в болото затянули.
Мистина помолчал, но по старой привычке коснулся груди, где в верхней части когда-то были шрамы, вынесенные из битвы при Ираклии. Эльга знала: так он делал, когда думал о чем-то опасном.
– Никто не проведает, – попыталась она успокоить его. – Я скажу ему, чтобы молчал.
– Скажи. Но немцы… сначала ударили по греку-папасу, теперь – по нашему племяннику. – Мистина взглянул на Торлейва. – Куда следующая стрела пойдет? В наших с тобой детей? – Он перевел взгляд на Браню, потом на Эльгу, и она увидела во взгляде его ожесточение – направленное не на нее, но тем не менее страшное. – В нас?
– Кощеева сила! – послышалось от двери. – И вы про Оттона клятого толкуете!
Каждый седьмой день носил название «кирьяки», то есть день Господа, и отец Ставракий был занят службой в церкви. К Святой Софии собралось больше народа, чем в прошлый раз, хотя меньше, чем до всей суеты с жабами, и Эльга надеялась, что переполох постепенно уходит в прошлое. Браня не оставила желания послушать про спор за пленную деву, и на следующий день в избе Эльги сидели, кроме Мистины и двух его старших дочерей, отец Ставракий и Острогляд, тоже с дочерью, Ведомирой, и все, включая женщин, горячо обсуждали несправедливый дележ военной добычи. Обернувшись на голос, обнаружили вошедшую Прияславу, Эльгину ятровь, и при ней девушку-служанку, Альрун. Прервав спор, все по очереди пошли поцеловаться с молодой княгиней – кроме отца Ставракия, но и он приветливо ей поклонился.
Торлейв, оглядевшись и убедившись, что в избе все свои, тоже поцеловал молодую княгиню, и она радостно сжала его руку. Когда Горяна удалилась из Киева, именно Торлейва Эльга послала к Прияславе в Свинческ, чтобы привезти ее назад; с тех пор она хранила тайную, но живую привязанность к нему.
– Нет, мы не про Оттона, – ответила Эльга, когда Прияслава уселась. – Мы про древнего витязя одного, что Илион-град воевал еще до Константина Великого. Может, и до Христова рождения?
Она посмотрела на отца Ставракия, и тот, подумав, подтвердил: скорее всего, ранее, ибо во всем пространном предании о Христе нет ни слова.
Отец Ставракий и раньше знал «Илиас» – его читали во всех школах и университетах Василеи Ромейон, переписывали в скрипториях, хоть и делали оговорки, чему стоит учиться у язычников, а чему нет. Поэтому он мог своими словами, внятно, пересказать Бране, что там было с той пленницей – слушать Гомеровы стихи в неуверенном пересказе ей было затруднительно.
– Они так много говорят! – пожаловалась Браня, когда Торлейв уступил поле под стенами Илиона отцу Ставракию, как более опытному в битвах с библосами. – Я не понимаю – о чем? Какие-то две пленницы, одну надо отдать ее отцу, а то он своему богу пожаловался и тот все войско стрелами поубивал, а тому царю надо дать другую, и почему-то он хочет пленницу Хилоусову… Он же и без того богатый, а у Хилоуса ничего нет!
– Все очень даже понятно, – терпеливо разъяснял Мистина: будущей княгине необходимо хорошо разбираться в этих вещах. – Тот старший царь, как главный вождь, в себе носит удачу всего войска. Нет у него удачи – ни у кого нет. Он получает всю добычу – она взята его удачей, поэтому принадлежит ему. Но он ее берет не для себя, а для войска. Нет ничего хуже для вождя, чем жадность, он не должен брать себе слишком много. Вождь берет лучшую часть – какую-то одну вещь, а остальное раздает воинам…
Он глянул на Эльгу, и она притронулась к подвескам у себя на очелье – напоминая о тех греческих подвесках изумительной красоты, с золотыми лучиками и жемчужинами, что он привез ей из Греческого царства двадцать лет назад. У всех на глазах сунул за пазуху, когда обнаружил их в сокровищах горного монастыря, сразу объявив, что «это доля княгини».
– Но и воины обязаны, – продолжал Мистина, ответив ей беглой тенью улыбки, – отдавать все вождю, иначе они получат только пожитки, но не удачу. Без удачи ведь любой мантион, золотом истканный, – только тряпье. Чтобы удача не кончалась, воины должны все отдать вождю, а он, освятив добычу, раздает ее опять. И чем доблестнее воин, чем больше его вклад в победу, тем больше он должен получить. Хилеус был лучшим воином, и ему дали самую красивую пленницу. А царь, если ему свою приходится вернуть ее отцу, хочет у Хилеуса ту забрать, чтобы самому без добычи не остаться.