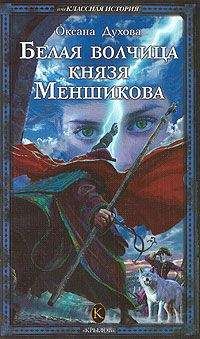Хозяйка тайги - Духова Оксана
Генерал Луков устало вздохнул. Глянул на графа Муравьева, генеральский мундир которого с золотыми эполетами и аксельбантами ярко сиял в лучах восходящего солнца, и понуро отвел глаза в сторону.
– Его императорское величество соизволением своим лишает вас чести быть российскими офицерами! – хрипло выкрикнул Луков. Как же мучительно было отдавать сей приказ, Муравьев был ему другом, другом! Но солдат должен повиноваться. Повиноваться слепо.
– На колени! – выкрикнул Луков. Его голос дрогнул. Одетый в длиннополый красный сюртук палач встал за спиной Муравьева, надавил тому на плечи, принуждая опуститься в пыль, вытащил шпагу из ножен, сорвал и бросил в пыль ордена, сдернул с мундира эполеты. Муравьев даже не шелохнулся; казалось, что он превратился в камень. В один из камней этой крепости, возведенной на людских костях.
– Что ты творишь, Прохор Григорьевич? – спросил он только дрожащим голосом, когда палач рванул с него генеральский мундир и бросил в огонь.
Генерал Луков отвернулся. Слезы подступали к глазам. Только адъютант молча топтался на месте, глядел все на коленопреклоненного Муравьева, а затем закричал срывающимся голосом:
– Все на колени!
Словно кто их дернул за невидимую веревку, и осужденные рухнули на колени в крепостную пыль. Палач поднял над головою боевого генерала Муравьева шпагу, перехватил поудобнее. А потом плашмя ударил клинком по голове графа и преломил шпагу офицера. Из ранки на лбу графа потекла кровь.
В толпе зрителей белая как мел жена Муравьева, Александра Григорьевна, крепко вцепилась в руку Ниночки:
– Как они смеют, как они смеют, – глухо шептала она, – как они смеют…
Занавес над спектаклем величайшего унижения пополз в стороны, акт начала изгнания из человеческого сообщества разыгрывался на подмостках российской истории.
Каждому из приговоренных было суждено пережить эти минуты глубочайшего унижения, и это были минуты, выжигавшие сердца, оставлявшие там никогда не заживающие страшные язвы.
Трубецкой и Волконский зажмурили глаза, когда палач рванул с них мундиры и бросил в жадно пылающий костер. Вечный поэт Кюхля – Кюхельбекер – скинул с себя фрак без посторонней помощи, самолично прошел с ним к костру и сплюнул.
Над площадью плыл едкий дым, душил зрителей, глаза посланников и генералов, верно, от него слезились. Молча, широким каре стояли полки и смотрели на разворачивавшийся перед ними спектакль. Еще были живы все заговорщики, еще предстояла казнь пяти приговоренных на следующее утро, и уж на том зрелище посторонние не предполагались. Сегодня ж каждый мог задаться вопросом, какую б участь выбрал он себе сам, коли б была на то его воля – тех, кто должен умереть, или же тех, кому была дарована жизнь на погибель в далекой Сибири.
Догорали дымные костры, сжигавшие мундиры осужденных, дымили и чадили, заволакивая весь Кронверкский вал, и среди дыма стояла виселица, ждущая своей жертвы…
– Я не могу, – внезапно сказала Александра Григорьевна Ниночке. – Поехали домой, мне дурно, я не могу видеть эти столбы…
Подле той виселицы, совсем близко стояла стройная женщина в черном платье и черной шляпке. Неподвижная и безмолвная. Маленькая девочка держалась за ее руку…
– Рылеева… – догадалась Ниночка.
И внезапно обрадованно подумала, что ее Бореньку ждет Сибирь.
Сибирь… Это было иное. Иное название геенны огненной.
Сибирь… Бескрайняя земля, покрытая лишаями гигантских болот и буйных рек. Это – леса, несть которым ни начала, ни конца. Это – обрывок третьего дня Творения, когда сказал Господь: да порастет земля деревьями и травами, да будут реки питать изжаждавшееся чрево земное.
Сибирь… Последнее великое молчание мира сего.
Свыше часа длилась процедура, преламывались шпаги, сжигались мундиры, золотые аксельбанты и эполеты. А затем на простых телегах подвезли груду серых роб каторжан. Палачи бросали их без разбора приговоренным. Борису досталась роба, в которой он мог утонуть с головой. А вот длинному нескладному Кюхле попалось одеяние, явно сшитое на карлика. Да и Трубецкому его новый наряд был тесноват, та ж беда ожидала и Волконского.
– Стройся! – раздалась команда.
Военный оркестр заиграл марш, вновь понеслась над кронверком барабанная дробь, и осужденные строем, с гордо поднятыми головами отправились назад в крепость. И когда на пути их попадались обломки шпаг, они намеренно наступали на них, на осколки своей попранной в одночасье чести. Муравьев же пинком ноги отбросил клинок.
Медленно закрылись за декабрьскими мятежниками створки ворот. В последний раз им было дано почувствовать себя свободными людьми – с сегодняшнего дня начиналась каторга, жизнь мертвых душ.
Зрители на площади устроились поудобнее среди подушек экипажей и дали знак кучерам трогаться. Все! Финита ля комедия! Офицеры вскочили на коней, полки молча маршировали по казармам. И только французский посланник, так и не оправившийся от пережитого потрясения, сказал своему шведскому гостю:
– Мон шер, по сравнению с этим гильотина истинно гуманное наказание!
О спектакле в крепости святых Петра-и-Павла недолго говорили в Петербурге, у столицы империи память была короткая.
Столица империи даже не заметила, что после наказания заговорщиков знатных да сановитых, пришел черед простых солдат. Генерал Луков с содроганием писал в своем дневнике: «Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что когда одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первым положили того, которому 101 удар плетьми назначили. Палач наш отошел шагов на пятнадцать от кобылы, а потом медленным шагом начал приближаться к наказываемому. Кнут тащился по пыльной земле меж ног палача. И когда палач подскакивал на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар… Первые удары делались крест накрест, с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Во время самого дела, отсчитавши ударов двадцать или тридцать, наш палач, мастер работы своей изуверской, подходил к стоявшему тут же полуштофу, выпивал стакан водки и опять принимался за работу. Коли наказываемый солдатик не издавал ни стона, никакого звука, и не замечалось даже признаков жизни, ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Коли при этом находили, что человек еще жив, его снова привязывали к кобыле и продолжали наказание… Страдания несчастных были ужасные. Я сам смотреть долго на сие действо не смог, покинул плац. Забыть, забыть все это скорее, как страшный сон, не мне приснившийся…»
Они забыли все – солдат и декабристов, расстрел пушками сенатского восстания, они кричали ура ему, новому государю, и благословляли. Но его все время беспокоила мысль о молве, слухах, слухах, будто бы брат Александр не умер, а скрылся. Мысли эти тревожили и беспокоили Николая. Несколько завуалированных фраз донесений и почему-то название Саровской обители…
Николай призадумался. Никому нельзя довериться в таком деле, никто не должен ничего знать.
А что если он в самом деле жив?
Николай даже вздрогнул. Решено, он поедет в Саровскую пустынь, он сам все исследует. Никого не брать с собой. Свита самая минимальная. Из тех, кто не знал брата живым…
…Небольшая дверь из простых деревянных плах закрывала келью.
Николай Павлович, император всероссийский, робко и боязливо приотворил дверь. Затянутая черной тканью комнатка казалась поначалу пустой, но вот перед распятием из черного дерева, висевшего в углу, он заметил коленопреклоненного человека.
Николай осторожно приблизился.
– Рад тебя видеть, государь, – тихо проговорил монах ли, нет ли…
Николай непроизвольно шагнул вперед и стиснул человека в простой одежонке в объятиях.
– Зачем ты это сделал, брат? Зачем?
– Разве что плохое? – тихо ответил монах, слегка наклоняя голову к плечу.
– Но ведь ты мог уйти открыто, жить частным человеком, и тогда не было бы всей этой смуты, не заставил бы меня Бог палить из пушек по собственным солдатам.