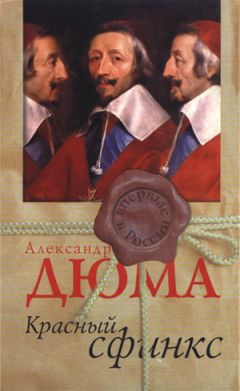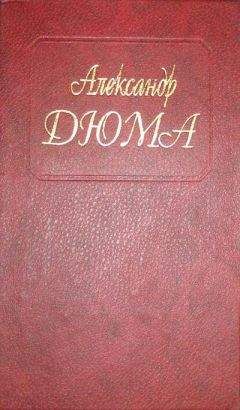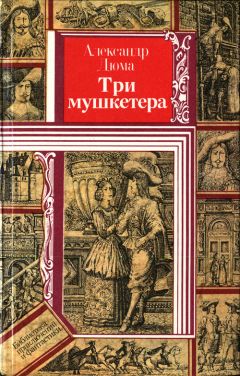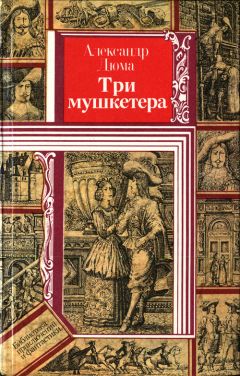Александр Дюма - Красный сфинкс
— О, это он готов сделать, — отозвался Ротру. — Просить стихи у поэта — все равно, что просить воду у источника. Начинай, Корнель!
Корнель покраснел, что-то пробормотал, приложил руку ко лбу и голосом, казалось созданным для трагедии, а не для комедии, прочел следующие стихи:
Призна́юсь, друг: моя болезнь неизлечима;
Лекарство есть — ко мне оно неприменимо!
Покинув гордую, я был бы только прав —
Пусть тешит на других высокомерный нрав.
Но сердцем и умом моим она владеет,
С Мелитой рядом я — уста мои немеют
И тщетно жажду я в разлуке с ней найти
Свободы краткий миг, чтоб душу отвести.
О иго сладкое единственного взгляда —
И снова скован я, иных цепей не надо!
И бедный разум мой так сладко ослеплен:
Болезнь мила ему, бежит леченья он.
В глазах Мелиты есть особенная сила —
Она угасшую надежду оживила,
Смирила в сердце гнев, кипящий через край,
И говорит любви: «Борись, не уступай!»
Но, в душу мне слова отрадные роняя,
Обман пленительный лишь пламя раздувает
И не дает того, что обещает дать,
И обречен я вновь томиться и страдать.
В заветный день краса бессмертной Афродиты
Посрамлена была рождением Мелиты;
С небес хариты к ней спешат наперебой.
Играть зовут ее почтительно с собой.
Любовь же, не посмев на большее решиться,
В само́м ее лице сумела поселиться.
Два или три раза раздавался одобрительный шепот: стихи доказывали, что чистейший «язык Феба», столь модный в парижском обществе, проник и в провинциальные салоны и что светлые умы есть не только в особняке Рамбуйе и на Королевской площади. Но как только прозвучала последняя строка
В само́м ее лице решила поселиться,
г-жа де Рамбуйе подала сигнал к громким восхвалениям. Лишь несколько мужчин, в том числе младший из братьев Монтозье, в знак протеста промолчали.
Но поэт не заметил этого и, опьяненный аплодисментами, которых удостоил его цвет духовной жизни Парижа, поклонившись, сказал:
— Далее следует сонет к Мелите; читать ли его?
— Да, да, да! — одновременно закричали госпожа принцесса, г-жа де Рамбуйе, красавица Жюли, мадемуазель Поле и все, для кого образцом был вкус хозяйки дома.
Корнель продолжал:
Прекрасней глаз Мелиты нет во всей вселенной,
Нет тверже верности, что мне судьбой дана;
Мой пыл, ее лицо пребудут неизменны:
Ведь то же я в любви, что в красоте она.
О сердце, что тебе предложит новизна?
Для стрел любых теперь ты неприкосновенно;
И пусть любимая в жестокости сильна —
Не сгинет преданность от строгости надменной.
Я знаю, неспроста пожар сердечный мой
Встречает у нее лишь холод ледяной,
И я, хоть нелюбим, но от любви сгораю:
Достались — из того, что боги нам сполна
Давали на двоих, в сей мир нас посылая, —
Ей все достоинства, а мне любовь одна.
В те времена сонеты вызывали наибольший душевный подъем по сравнению с другими поэтическими произведениями, хотя еще не были сказаны слова Буало (ему предстояло родиться лишь восемь лет спустя):
Безукоризненный сонет поэмы стоит.
Сонет Корнеля, признанный безукоризненным (особенно женщинами), был встречен бурными аплодисментами; даже мадемуазель де Скюдери соблаговолила слегка похлопать.
Ротру, чье верное сердце было полно нежной преданности другу, больше всех радовался триумфу своего друга и был просто на верху блаженства.
— Действительно, господин де Ротру, — сказала госпожа принцесса, — вы были правы относительно вашего друга: этого молодого человека стоит поддержать.
— Если вы так думаете, госпожа принцесса, то не смогли бы вы через его высочество господина принца найти для него какое-нибудь скромное место, — ответил Ротру, понижая голос с таким расчетом, чтобы его могла услышать только г-жа де Конде, — средств у него нет, и, согласитесь, будет досадно, если из-за нехватки нескольких экю такой великолепный гений не разовьется.
— Да уж, господин принц именно тот человек, с которым следует говорить о поэзии! На днях он увидел у меня за ужином господина Шаплена. Он отозвал меня, чтобы сказать уж не помню что, потом вернулся и спросил: «Кстати, кто этот черненький господин, что ужинает с вами?» — «Господин Шаплен», — отвечала я, полагая, что этим все сказано. «А кто такой господин Шаплен?» — «Тот, что создал „Девственницу“». — «Ах, „Девственницу“? Так это скульптор?» Нет, лучше я поговорю о нем с госпожой де Комбале, а она — с кардиналом. Согласится он работать над трагедиями его высокопреосвященства?
— Он согласится на все, лишь бы остаться в Париже. Судите сами: если он создает такие стихи в прокурорской канцелярии, то что же он создаст, оказавшись в мире, где вы королева, а маркиза первый министр?
— Прекрасно, ставьте «Мелиту»: она пройдет с успехом и мы все это уладим.
Она величественно протянула Ротру свою прекрасную руку; тот взял ее в свою и стал разглядывать, как бы оценивая ее красоту.
— О чем это вы задумались? — спросила госпожа принцесса.
— Я смотрю, найдется ли на этой руке место устам двух поэтов. Увы, нет: она слишком мала.
— К счастью, — улыбнулась г-жа де Конде, — Господь дал мне их две: одну для вас, другую для того, кого вы назовете.
— Корнель, Корнель, иди сюда! — закричал Ротру. — Госпожа принцесса в милость за сонет к Мелите разрешает тебе поцеловать ей руку.
Корнель, ошеломленный, ослепленный, готов был потерять сознание. В один и тот же вечер, в день своего светского дебюта поцеловать руку госпожи принцессы и удостоиться аплодисментов г-жи де Рамбуйе! В самых честолюбивых мечтах не помышлял он даже об одной из этих милостей.
Но кому же была оказана честь тогда? Корнелю и Ротру, целующим руки супруге первого принца крови? Или г-же де Конде, к чьим рукам приникли одновременно будущие авторы «Венцеслава» и «Сида»?
Будущее ответило, что честь была оказана госпоже принцессе.
Тем временем метр Клод с белой тростью в руке, напоминая Полония в «Гамлете», вошел и что-то тихо сказал маркизе де Рамбуйе. Выслушав своего дворецкого и в свою очередь шепнув ему так, чтобы никто не мог услышать, несколько приказаний и советов, маркиза подняла голову и с улыбкой произнесла:
— Любезнейшие и благороднейшие сеньоры, любимейшие и драгоценнейшие подруги, если бы я пригласила вас провести у меня сегодняшний вечер лишь для того, чтобы дать вам послушать стихи господина Корнеля, у вас не было бы причин жаловаться; однако я созвала вас с более материальной и менее возвышенной целью. Я не раз говорила вам о превосходстве итальянских шербетов и итальянского мороженого над французскими. Мне, наконец, удалось отыскать мороженщика, прибывшего прямо из Неаполя, и я смогу угостить вас его изделиями. Вместо «Кто любит меня, пусть следует за мной» я говорю: «Кто любит мороженое, пусть следует за мной». Господин Корнель, подайте мне руку!