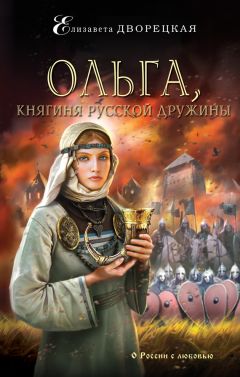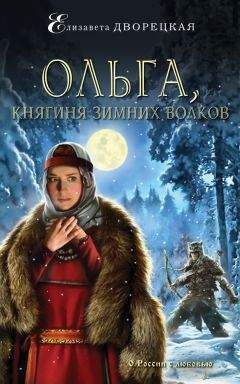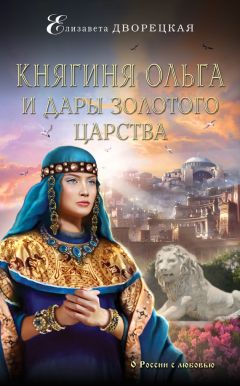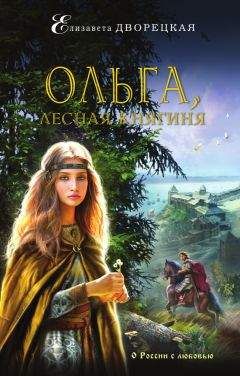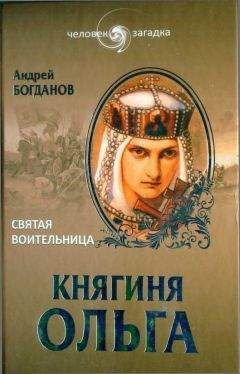"Княгиня Ольга". Компиляция. Книги 1-19 (СИ) - Дворецкая Елизавета Алексеевна
Только то и утешило Эльгу в потере всего приданого, что теперь она могла встречать знатных гостей с ожерельем на груди, в котором блестели камни точь-в-точь под цвет ее глаз, что как нельзя более выгодно оттеняло и то и другое.
А по Киеву полетел слух, что приехала «родная дочь Олега Вещего» и готовится выйти замуж за княжича Ингоря.
С тех пор у Эльги не много было покоя: всякий день ее просили в гридницу.
Поляне, варяги из старой Оддовой дружины, русские купцы, жившие здесь хазары-тенгрианцы и хазары-иудеи (этих она плохо различала), савары и саваряне, которых она отличала только по языку, торговые гости из славянских земель выше и ниже по Днепру – «вся эта русь» таращила на нее глаза, и многие, кто постарше, охотно подтверждали: вылитый Олег Вещий!
А поскольку к князьям не ходят с пустыми руками, перед Эльгой выкладывали кто косяк полотна, то связку белок, а кто побогаче – отрез цветного шелка, пусть и с ладонь шириной.
Эльга быстро освоилась: улыбалась, гордясь своим происхождением, старалась запомнить лица и имена, вежливо и с достоинством благодарила. Конечно, полностью ей эти дары утраченное не возместят, но все же приятно было чувствовать себя уже не совсем бесприданной сиротой.
Да и приезд плесковской родни, пусть и без укладок, значил немало: теперь три нарочитых мужа сидели по бокам от нее, принимая поклоны, и всякий видел, что княжичу Ингорю привезли не полонянку какую, а знатную жену из Плескова, княжескую племянницу.
Но родство с Олегом Вещим здесь значило, пожалуй, даже больше.
Почти всякий пришедший пускался в рассказы и воспоминания, и за месяц Эльга узнала о покойном дяде больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ее отец с братом рассказывали больше о его молодых годах, которым были свидетелями; о его жизни в Киеве они знали меньше.
Теперь выяснилось, что для этих мест он был чем-то вроде Перуна и Сварога разом. За несколько десятилетий его правления – сперва как воеводы последних Киевичей, потом как князя – Полянская земля изменилась до неузнаваемости.
Раньше это была узкая полоса вдоль Днепра, зажатая во враждебном окружении, платящая дань хазарам; с последними порой воевали за это право деревляне, но их власть полянам сулила еще менее добра. Хазары просто собирали дань и держали торговые пути, не давая полянам высунуть носа со своих «гор»; жизнь при них была бедная, зато спокойная. Деревляне же, считая себя первыми наследниками древнего племени дулебов и старшими над всеми прочими, стремились не только занять Киев, но и истребить полянскую старейшину, чтобы поглотить полянское племя и не оставить от него даже памяти.
Понятно, что поляне были готовы принять в князья даже «варяга из руси», чужого здесь человека, лишь бы он избавил их от давних братьев-недругов. Сделав это и начав, в свою очередь, брать дань с деревлян, Олег Вещий стал всем полянам отцом родным, и они без колебаний пошли за ним на саварян и на радимичей.
А уже потом, все вместе – на сам Царьград!
«Быть в руси» стало означать – быть защищенным и обеспеченным лучше, чем могли это сделать родовые и племенные чуры.
И посейчас о том походе на Царьград рассказывали басни, а иные из пришедших с гордостью выпячивали грудь: вот это платье цветное от греков привезено, из той добычи! Платьем из тех, что иной раз передают по наследству десять поколений [108], здесь владели довольно многие, и Эльга видела: все эти рассказы – не пустая болтовня.
– Две тысячи лодей было у нас, и в каждой – по сорок человек! – рассказывал ей сперва полянский боярин Будислав, потом старые варяги Руалд и Стемир. – Кейсар греческий цепями гавань загородил, так Олег Вещий велел лодьи на колеса поставить и паруса поднять! Так мы к стенам и пошли, а греки как увидали – враз со страху того…
Эльга улыбалась, не веря: да как это возможно?!
Однажды она все же задала этот вопрос молодому боярину Жизняте: этот родич Олега, приветливый и разговорчивый, сразу ей понравился.
– Почему же все так не ездят? – смеясь, спросила она. – Если бы по полю можно было бы ездить на лодьях с парусами, кто бы стал волов и лошадей запрягать?
– Всякому нельзя, – со вздохом сожаления ответил Жизнята. – Князь наш вещим потому и был – сильные слова знал, и по воле его случалось всякое, небывалое. Да умер, никому тех слов не передав, как и мудрости своей.
И посмотрел на Эльгу вопросительно.
Будто подумал: а вдруг кому и передал?
Поход Олега на Царьград уже оброс баснословными подробностями, но добыча и выгодный для русской торговли договор, вслед за ним заключенный, несомненно, были правдой. Те самые Руалд и Стемир – то есть Хроальд и Стейнмар, нурманы родом – не только участвовали в походе, но и состояли в числе послов, несколько лет спустя заключивших договор между русью и греками. Кроме них, ныне в живых оставался еще один из тех людей, Лидульв, но он, совсем старый и больной, никуда уже не ходил, доживая век на собственном дворе, поставленном благодаря воинской удаче его вождя.
Во многом благодаря договору с Царьградом Киев за последние десятилетия разросся. А русские купцы теперь могли по полгода жить в Царьграде за счет тамошнего кейсара, торговать беспошлинно и улаживать все возникающие споры по закону.
Как вскоре Эльга поняла, не только старые варяги вздыхали по прошлым временам. Подросли молодые удальцы, желавшие повторить подвиги предков и привезти не меньше дорогой добычи.
Но Олег Моровлянин был глух к этим желаниям: выгоды торговли уже привели в Киев не меньше цветного платья, драгоценностей и прочего добра, чем походы. Его поддерживали купцы, которым был выгоден мир, и старейшины, наладившие сбыт своих товаров в обмен на паволоки и серебро.
О новом Олеге Вещем мечтали только молодые, не успевшие отличиться, и знать более отдаленных мест, в те времена еще не имевшая связей с русью.
– Вот воротится княжич Ингорь, мы с ним еще потолкуем! – не раз и не два слышала Эльга. – Вот это удалец, так это да! А деревляне… А уличи…
О своем будущем муже Эльга услышала немало.
Его собственная дружина ушла с ним, но разговоров о ней было много. После успешного уличского похода, вернувшись в Киев с добычей, многие его люди той же осенью на радостях женились и поставили собственные дворы. Еще совсем свежи были воспоминания о сплошной череде свадеб, и Эльга много смеялась, слушая, кто у кого перехватил невесту, кто с кем подрался и прочие байки. Друзья ставились поблизости друг от друга, и их свежие дворы образовали целый конец, еще засыпанный щепой и стружкой – его называли «Ингоречи» или «Ингорев конец».
Близкую женитьбу молодого вождя киевляне приветствовали горячо и шумно, осыпая его похвалами за отвагу и удачу.
Словом, за этот месяц Эльга выросла в собственных глазах на две головы: в Плескове она не вполне понимала, как возвышает ее родство с Олегом Вещим и обручение с Ингваром.
Нужно было попасть в Киев, чтобы это понять.
Для самого Ингвара тоже ставили двор.
Но поскольку он тут бывал редко и недолго, надзирал за делом его кормилец Свенгельд. Подросший воспитанник больше не нуждался в том, чтобы его сопровождали и давали советы, поэтому Свенгельд устроился в Киеве, где тоже, разумеется, имел просторную и богатую усадьбу за высоким частоколом.
С ним Эльга познакомилась в первые же дни. Свенгельд, уже седой, без двух пальцев на правой руке, имел такой же свернутый на сторону нос, как у сына: это выглядело как проявление семейного сходства, хотя Эльга знала, разумеется, что сия «красота» остается от сильного и второпях плохо вправленного перелома. Такие носы были чуть ли не у половины повоевавших кметей. Немногословному Свенгельду с его пристальным взглядом глубоко посаженных серых глаз этот нос придавал еще больше внушительности.
Он не стал рассказывать Эльге о подвигах ее прежней и будущей родни.