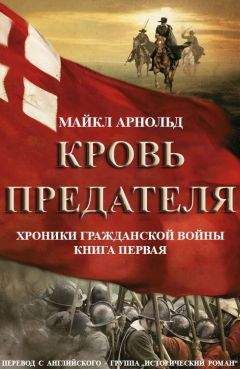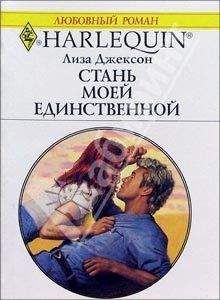Александр Балашов - Пророчество Асклетариона
— Я буду делать вид, что верю… А ты делай вид, что говоришь правду. Вот и вся обоюдная приятность.
— Ладно, слушай, — кивнул он. — О такой работе ты еще пять лет и не мечтала…
— О какой? — перебила она.
— О такой, о работе проводницы… Не перебивай.
Она, не скрывая снисходительной улыбки, кивнула.
— Не мечтала, конечно…
— Ты мечтала о дальних странах, прекрасных городах, коралловых островах и решила поступать на географический факультет вашего педа. Так?
Она перестала улыбаться, тихо сказала:
— Ну, допустим…
— И после школы подала документы на естественно-географический, готовилась четно, и твоё окошко до глубокой ночи светилось Надеждой… Но на бюджетное отделение не добрала одного бала… Дома с деньгами, сколько ты себя помнила, всегда была проблема номер один. Отец твой, потомственный железнодорожник, был сокращен по штату, спился и уже больше никогда официально нигде не работал.
— Не спился, а заболел… — поправила она.
— Заболел… Но больше уже он никогда по утрам не ходил в депо на работу. Пробавлялся случайными заработками. Так?
— Так…
— Мама много лет отработала в бригаде обходчиков, ходила по путям до последнего, пока не назначили ей грошовую пенсию… Жить на эти деньги даже в бараке МПС стало еще тяжелей. Чтобы учиться на платном отделении университета, не было и речи. И тогда…
— Стой, Звездочет, погоди… — остановила она импровизацию Максима и отвернулась к черному окну, за которым пробегали неясные ночные тени и редкие желтые огни. — Дальше я сама…
Художник кивнул.
— И тогда мама пошла в приёмную комиссию… Она не знала, куда нужно идти, чтобы умолить этих серьёзных умных людей и разжалобить… Ей сказали, что нужно дойти до проректора, какого-то солидного пузатого дядьку, который «мог решить всё». Мама нашла его, протянула узелочек, который тот положил на стол и начала просить со слезами…
Люба прервала свой рассказ и всхлипнула, пряча мокрые глаза от свалившегося на её голову безбилетника.
— Она так унижалась, так просила этого человека, чтобы он простил тот недобранный бал, но он не внял просьбам…
Люба повернулась к нему.
— И тогда мама развязала узелок, и на сто проректора посыпались ее единственные богатства — золотое обручальное кольцо и пара золотых сережек с зелеными камушками…
— Этого было так мало…
— Тот институтский начальник брезгливо отодвинул наше богатство и сказал, что если сию минуту она не покинет его кабинет, то он вызовет охрану.
Люба взяла печенюшку и раскрошила ее руками, глядя, как падают крошки на скатерть с черным штампом «РЖД» из её маленького кулачка.
— В ломбарде нам за эти мамины несметные сокровища дали три тысячи рублей… Вот и вс, прошептала она.
Максиму стало жаль проводницу. Обычная история стала страшна своей привычной обыденностью. Никакой трагедии. Жизнь как жизнь… Чтобы что-то сказать, он сказал фразу из своего любимого романа, которая когда-то казалась ему высшей правдой свободного человека:
— Никогда и ничего не просите у сильных мира сего. Придет время, и они всё дадут вам сами…
— Черта с два! — вдруг взорвалась Люба. — Вот здесь ты соврал, Звездочет! Никогда не отдавали и не отдадут сами! Проси — не проси.
6
Домициан возлежал на террасе в своем Альбанском поместье с записками Тиберия в руках. Кроме этих «гениальных указов» Тиберия, он уже давно вообще ничего не читал, хотя речь его не была лишена изящности. Да и когда при пожаре 80 года в Риме погибли библиотеки, он не пожалел денег на их восстановление. Однако ни знакомства с историей, с поэзией и лучшими произведениями писателей Рима он не обнаруживал никогда.
С утра императора мучила изжога. Он знал: если не пересилить себя и не встать, то жжение в желудке только усилится. Домициан прервал чтение и позвал спальника Парфения.
— Готовь носилки! И прикажи, чтобы захватили мой любимый лук и стрелы. Да газелей на лужок выпустили порезвее, не как в прошлый раз.
— Слушаюсь, государь, — поклонился Парфений.
— «Слушаюсь, государь!..» — передразнил своего спальника Домициан. — Твой словарь состоит из двадцати слов, не богаче, чем у моего попугая. Ты бы, Парфений, читал бы, что ли, побольше…
— Я всю вашу книгу о красоте и уходе за волосами проштудировал… — не поднимая глаз, проговорил спальник.
— Проштудировал он… Слова-то какие! Никак у германского астролога нахватался.
Император положил книгу на мраморный столик.
— Ну, и помогла она, книга моя, тебе?
— Еще как! — радостно воскликнул Парфений, трогая редкие волосы на продолговатой, похожей на огурец голове. — Я стал красивее!
Домициан усмехнулся:
— Хотел бы я, Пафений, стать таким же красавцем, каким ты сам себе кажешься…
Цезарь засмеялся, жестом прогоняя спальника с террасы исполнять его приказание.
— Да пусть снарядят походные носилки, на которых я участвую в сражениях! — бросил он вдогон Парфению.
Утомлять себя Домициан не любил: недаром он избегал ходить по городу пешком, а в походах и поездках редко ехал на коне, а чаще в носилках. С тяжелым оружием он вовсе не имел дела, зато стрельбу из лука[16] он очень любил. Многие видели, как не раз в своем Альбанском поместье он поражал из лука по сотне зверей разной породы.
На этот раз на лужайку перед его поместьем, окруженную великолепным садом, его сопровождали корникулярий Клодиан, управляющий Домициллы[17] Стефан, спальник Парфений, рабы и мальчики, которые должны были выпускать из клеток газелей, которых поражал своими стрелами меткий Домициан.
Солнце встало у цезаря за спиной, на Капитолии старый ворон, поселившийся здесь с незапамятных временн каркнул:
— Всё будет хор-р-рошо!
«Всё будет хорошо… — мысленно повторил за ним Домициан. — Всё будет…».
Потом, пока пересматривал стрелы, а мальчики-рабы готовили для него первую мишень-жертву, задумчиво глядя на свою разномастную свиту, подумал: заговор можно уничтожить на корню. Нужно только задобрить этот народ, жаждущий хлеба и зрелищ, хлеба и зрелищ… Это универсальное лекарство от любого заговора против правителя Рима. Задобрить ченрнь грошовыми подачками, посулить подарки побогаче сенаторам и всадникам — и всё. Они уже твои. Никакой Луций Антоний не подвигнет сытых и довольных на бунт и заговор против него, Домициана мудрого, которого в своей «Естественной истории» когда-то хвалил сам Плиний!
Да надо, надо расстараться для самого же себя, своего блага и своей безопасности. Он прикрыл глаза, ощущая, как восходящее солнце печет его плешь сзади даже под лавровым венком.