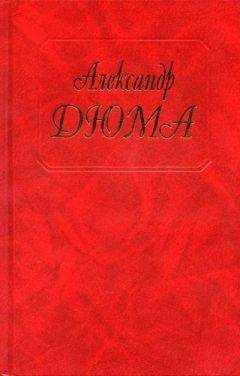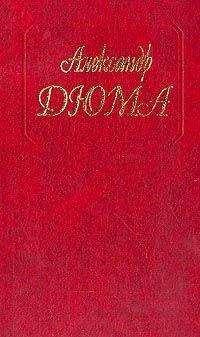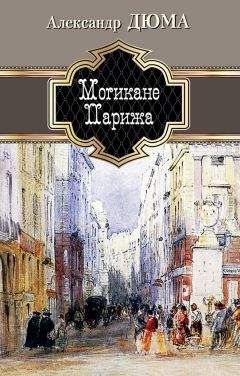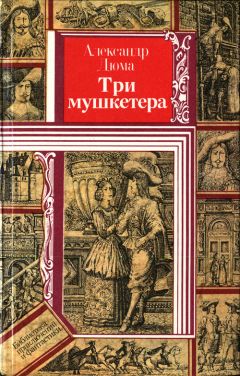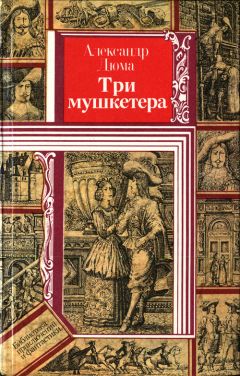Александр Дюма - Парижские могикане. Том 1
Двое молодых людей, несмотря на кажущуюся разницу в их общественном положении, взялись под руку и зашагали по улице Сен-Дени, в сторону Дворца правосудия. Выйдя на площадь Шатле, они остановились. У их ног бежала река, перед ними возвышался собор Парижской Богоматери, неподвижный и величавый; Сент-Шапель возносила над домами свой зубчатый гребень, словно Левиафан, вздымающийся над волнами. Можно было подумать, что находишься в Париже XV века.
Это обманчивое впечатление усиливалось благодаря кучке людей, одетых в наряды времен Карла VI; они шли по набережной Жевр и кричали изо всех сил:
— Два часа четырнадцать минут! Все спокойно! Спите, парижане!
Их вполне можно было принять за недовольных, которых община буржуа, владевшая парижской бойней, направляла время от времени к королю Карлу VI с требованиями новых уступок. Это были те же самые Гуа, Тиберы, Люилье, Мелотты во главе с Кабошем, наводящим ужас живодером.
Они преспокойно разгуливали. Казалось, они вот-вот начнут бесчинства и только выжидают, когда спрячется луна или проснется король.
Сальватор и Жан Робер пропустили маскарадное шествие, торопливо перешли через мост Менял и очутились на небольшой площади, расположенной между мостом Сен-Мишель и улицей Лагарп.
Десятка три студентов и гризеток, в немыслимых костюмах, танцевали, радостно что-то выкрикивая, вокруг костра, сложенного из пяти-шести соломенных тюков.
Жан Робер, изучавший для своей будущей работы французскую историю, не удержался и стал искать глазами каменный столб с высеченной на нем головой, на шее у которой положено было висеть кошельку; как свидетельствуют старинные хроники, такой столб стоял на этой площади вплоть до XVII века.
Можно было подумать, что собравшаяся здесь молодежь, почти вся одетая в средневековые костюмы (эпоха средневековья становилась очень популярной), пришла сюда четыре века спустя после известного события затем, чтобы выразить протест против страшного предательства, о котором напоминает эта площадь.
Случилось это в тихую ночь, такую же лунную, как теперь, в два часа ночи 12 июня 1418 года. Перрине Леклер выкрал у отца из-под подушки ключи от Сен-Жерменских ворот, отпер их и впустил в город восемьсот ожидавших под стенами Парижа солдат герцога Бургундского, предводительствуемых Вилье, сеньором де л'Иль-Аданом.
Все, кто попал под руку бургундским всадникам, были безжалостно вырезаны — женщины, дети, старики; епископы Кутанский, Сентский, Байёский, Санлисский, Эврёский были убиты прямо в кроватях; коннетабля и канцлера выволокли на улицу, разрубили на части, куски тел разбросали, а головы пронесли по городским улицам.
Резня продолжалась неделю. Парижане изгнали бургундцев, и родной город вновь оказался в их руках. Стали искать предателя, причину позора и несчастья. Обшарили Париж до последнего камня, но Перрине Леклера так и не нашли.
Он исчез, и никто о нем больше никогда не слышал.
Тогда неизвестный скульптор поспешил высечь фигуру предателя; ее протащили по городу, от улицы к улице, от двери к двери; каждый хлестал ее по щекам, плевал ей в лицо, а потом тот же скульптор высек Иуду XV века с кошельком на шее на том самом столбе, который в старину довелось видеть историкам.
Жан Робер вспоминал об этом, отводя взгляд от пестрой веселой толпы, озаряемой неровными отблесками пламени; вглядываясь в полуосвещенные углы площади и в темноту улиц, он произнес вполголоса, словно разговаривал сам с собой:
— Хотел бы я знать, где стоял этот столб.
— На углу площади и улицы Сент-Андре-дез-Ар, — отозвался Сальватор, будто от первого до последнего слова угадав, о чем думал Жан Робер, и заканчивая своим ответом его мысленный монолог.
— Откуда вы знаете то, что не известно мне? — спросил Жан Робер.
— Прежде всего, — рассмеялся Сальватор, — ваше удивление граничит с надменностью. Уж не думаете ли вы, господин поэт, что те, кому положено знать, действительно все знают? Мне казалось, что пример вашего друга Людовика, не имевшего понятия о свойствах валерьяны, должен был кое-чему вас научить.
— Простите, слово вырвалось у меня случайно, — извинился Жан Робер. — Это больше не повторится. Я начинаю замечать, что вы знаете все на свете.
— Далеко не все, — возразил Сальватор, — но я живу среди народа, а народ — великан, воплощающий древние мифы о стоглазом Аргусе и сторуком Бриарее; он сильнее королей и умнее господина де Вольтера! А одно из преимуществ, или один из недостатков этого народа, — памятливость, особенно на месть за предательство. Предатель, которого короли оправдывали и осыпали наградами, перед которым аристократия распахивала двери, которого приветствует буржуазия, для народа остается предателем; если честь его имени восстановлена в глазах остальной части общества, то для народа оно навсегда опозорено и проклято: это имя предателя! И недалеко, может быть, то время, — прибавил Сальватор мрачно, и на его лице мелькнуло выражение, какое от него трудно было ожидать, — недалеко, может быть, то время, когда вы убедитесь сами в правоте моих слов… А имя Перрине Леклера (среди образованных классов общества его помнят одни историки), имя это — хотя народ и не знает многих подробностей предательства, о котором оно напоминает, — для него есть ненавистное воспоминание, тем более ненавистное, что отмщение невозможно, что преступление не искуплено казнью, что Провидение на этот раз, словно заснувший или подкупленный судья, закрыло на него глаза. Идемте!
Сальватор двинулся по улице Сент-Андре-дез-Ар.
Жан Робер последовал за странным человеком, волею случая ставшим его проводником, и пошел с ним по пустынной мрачной улице.
Между улицей Макон и площадью Сент-Андре-дез-Ар спутник поэта остановился против белого домика, чистенького, но узкого, всего в три окна по фасаду.
В дом вела небольшая дверь, выкрашенная под дуб.
Сальватор достал из кармана ключ и приготовился войти.
— Итак, — обратился он к Жану Роберу, — решено, что мы проведем остаток ночи вместе, не так ли?
— Вы мне это предложили, я согласился. Вы хотите отказаться от своего предложения?
— Нет, Боже сохрани! Но как бы мало я собой ни представлял, на свете есть два существа, которые будут обеспокоены, если я не вернусь до определенного срока; эти два существа — женщина и пес.
— Ступайте успокойте их, я подожду вас здесь.
— Вы из скромности отказываетесь подняться? В таком случае вы ошибаетесь: я один из тех непонятных людей, которые ничего не скрывают и так и остаются непостижимыми. Кажется, господину де Талейрану принадлежат слова: в тот день, когда дипломат скажет правду, он обманет весь мир. Я тот самый дипломат; правда, мне нет нужды обманывать мир, ведь ему нет до меня дела.