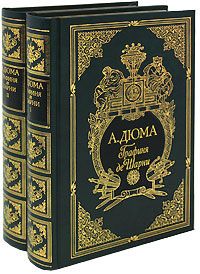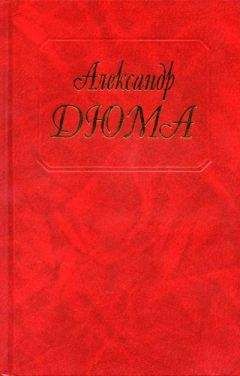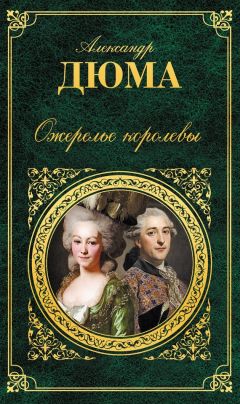Александр Дюма - Жозеф Бальзамо. Том 2
Когда лошадь Филиппа, высекая подковами искры из булыжника, пустилась по боковой дорожке, какой-то человек, явно привлеченный шумом, появился из-за ровной грабовой шпалеры.
Это был Жильбер, в руке он держал кривой садовый нож.
Садовник узнал своего бывшего хозяина.
Филипп тоже узнал Жильбера.
Жильбер уже месяц каждый день словно неприкаянный скитался по парку, не зная ни минуты покоя.
В этот день, со свойственной ему ловкостью воплощая в жизнь свой очередной замысел, он выбирал места на аллеях, откуда был бы виден флигель Андреа или ее окна; это ему было нужно, чтобы иметь возможность постоянно наблюдать за ее домом, но так, чтобы никто не замечал, как он томится, терзается и вздыхает.
Вооружившись для видимости садовым ножом, он обходил живые изгороди и куртины, здесь обрезая цветущую ветку, там подсекая кору на молодых липах якобы для того, чтобы снять наросты, и при этом постоянно прислушивался, приглядывался, вожделея и сожалея.
За последний месяц Жильбер сильно побледнел; о молодости в его лице свидетельствовали лишь странно блестевшие глаза да матовая, гладкая кожа, меж тем как плотно сжатые губы, уклончивый взгляд, подергивающаяся щека уже предвещали приход более угрюмой поры — зрелости.
Как мы уже говорили, Жильбер узнал Филиппа, а узнав, сразу сделал движение, словно желая скрыться в зарослях.
Однако Филипп направил к нему коня и окликнул:
— Жильбер! Эй, Жильбер!
Первым порывом Жильбера было убежать; на него напал ужас, его охватило то помутнение разума, то необъяснимое исступление, которое древние, любившие давать всему истолкование, приписывали воздействию Пана[124], и он уже готов был словно безумный броситься по аллеям, через боскеты и шпалеры прямо в пруд.
По счастью, обезумевший юноша услышал и понял полные доброты слова, с которыми обратился к нему Филипп.
— Неужто ты не узнал меня, Жильбер? — закричал он.
Поняв, что поступает глупо, Жильбер остановился.
Затем он вернулся назад, впрочем, медленно и недоверчиво.
— Да, господин шевалье, — дрожа, ответил молодой человек, — я вас не признал, принял вас за стражника и побоялся, что он увидит, что я ничего не делаю, и возьмет на заметку, чтобы наказать.
Филипп, удовлетворившись этим объяснением, спрыгнул на землю, взял лошадь под уздцы и положил руку Жильберу на плечо; тот вздрогнул.
— Что с тобой, Жильбер? — спросил Филипп.
— Ничего, сударь, — ответил юноша.
Филипп печально улыбнулся.
— Ты не любишь нас, Жильбер, — вздохнул он.
Молодой человек снова вздрогнул.
— Я понимаю, — продолжал Филипп, — мой отец обходился с тобой сурово и несправедливо, но я-то?
— О, вы… — пробормотал молодой человек.
— Я всегда любил тебя и поддерживал.
— Это правда.
— Так позабудь дурное и помни хорошее. Моя сестра тоже всегда была добра к тебе.
— О нет, вот это — неправда, — живо возразил юноша с чувством, которого никто бы не понял: в его голосе звучало и обвинение Андреа, и оправдание себя, в нем клокотала гордость и в то же время стенала нечистая совесть.
— Да-да, — согласился Филипп, — я понимаю, сестра несколько высокомерна, однако в глубине души она девушка добрая.
Затем помолчав, поскольку весь этот разговор он затеял лишь для того, чтобы отсрочить страшившее его свидание, Филипп спросил:
— Скажи, Жильбер, ты не знаешь, где сейчас Андреа?
Произнесенное вслух имя девушки болью отозвалось в сердце Жильбера; сдавленным голосом он ответил:
— Полагаю, что у себя, сударь. Откуда мне знать наверняка?
— Как всегда в одиночестве, как всегда грустит. Бедная сестра! — прервал его Филипп.
— Сейчас она, по всей вероятности, и вправду одна, сударь. После бегства мадемуазель Николь…
— Как? Николь сбежала?.
— Да, сударь, со своим любовником.
— С любовником?
— Во всяком случае, мне так кажется, — пояснил Жильбер, испугавшись, что зашел слишком далеко. — Прислуга поговаривала…
— Но послушай, Жильбер, — беспокоясь все сильнее, настаивал Филипп, — я ничего не понимаю. Из тебя все приходится вытягивать чуть ли не клещами. Будь-ка немного полюбезнее. Ты не глуп, у тебя есть врожденное благородство, так не порти эти свои похвальные качества напускной дикостью и грубостью, неподобающими ни тебе, да и никому другому.
— Но я, сударь, просто не знаю того, о чем вы меня спрашиваете, а если вы поразмыслите, то поймете, что и знать не могу. Я целыми днями работаю в саду, а что там делается в замке — понятия не имею.
— А я-то, Жильбер, полагал, что у тебя есть глаза.
— У меня?
— Да, и что тебе небезразличны все, кто носит наше имя. Каким бы убогим ни было гостеприимство Таверне, ты все же пользовался им.
— Я, господин Филипп, очень интересуюсь всем, что касается вас, — внезапно охрипшим, резким голосом ответил Жильбер; снисходительность Филиппа, равно как еще одно чувство, которого тот угадать не мог, смягчили сердце нелюдима. — Да, я люблю вас и потому скажу, что ваша сестра серьезно больна.
— Серьезно больна? Моя сестра серьезно больна? — вскричал Филипп. — И ты молчал об этом?
Но тут же, не дожидаясь ответа, он задал следующий вопрос:
— Боже, что с нею?
— Никто не знает.
— Но все-таки?
— Сегодня она трижды лишалась чувств прямо в парке. А только что у нее были врач ее высочества дофины и господин барон.
Филипп больше не слушал: предчувствия его не обманули, однако перед лицом истинной опасности он вновь обрел все свое мужество.
Молодой человек бросил поводья Жильберу и со всех ног устремился к службам.
Что же до Жильбера, то, отведя лошадь на конюшню, он тут же исчез, следуя примеру диких или вредных птиц, предпочитающих держаться подальше от человека.
141. БРАТ И СЕСТРА
Филипп нашел сестру лежащей на маленькой софе, о которой мы уже упоминали.
Войдя в прихожую, молодой человек заметил, что Андреа убрала цветы, хотя и любила их: когда началась болезнь, их запах стал причинять ей невыносимые мучения, и все недомогания, которые девушка испытывала в последние две недели, она относила на счет раздражения нервов, вызываемого ароматом цветов.
Когда Филипп вошел, Андреа пребывала в глубокой задумчивости: ее прелестная головка, омраченная какими-то мыслями, поникла, полные скорби глаза бесцельно блуждали. Руки девушки безжизненно повисли вдоль туловища, и хотя в таком положении к ним должна была бы прилить кровь, они тем не менее казались восковыми.
Девушка лежала так неподвижно, что ее можно было принять за мертвую, и лишь дыхание свидетельствовало о том, что она жива.