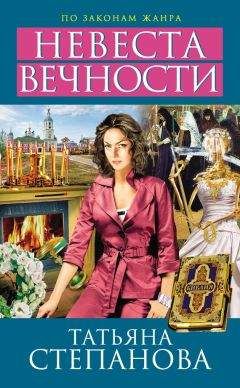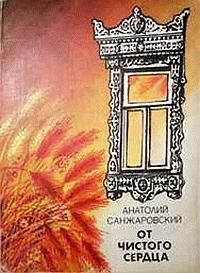Мэри Рено - Тезей
Она стояла, блестя оружием под поблекшим небом и новорожденной луной, — прямая, стройная и сильная, — но я видел, в глазах царя и воина, смятение девушки, никогда в жизни не говорившей с мужчиной. Молча смотрела на меня… Потом — ухватившись за что-то такое, что знала, — крикнула:
— Я должна тебя убить!.. Ты видел Тайну!..
— Конечно. Ты должна постараться. Давай. Начинай.
Мы разошлись и закружили по площадке, скрючившись за своими щитами. Скверно, что она выбрала дротики. Я надеялся, что сразу начнем с рукопашной, на топорах или на копьях, а теперь у меня были два, от которых надо было избавиться, не задев ее, и еще от двух — увернуться. Чем скорей, тем лучше…
Я занес дротик для броска, она тоже… Она была так быстра и легконога, что любой бросок был рискован. Я целился медленно, чтобы показать, куда полетит дротик; но она решила, что это финт, — я и сам подумал бы так же, — и прыгнула прямо под него. Я едва успел промахнуться. Никогда, ни в одном бою я так не пугался, как в тот миг, и этот страх меня подвел: я следил за полетом своего, а в это время ее дротик полоснул мне бедро лезвием наконечника. Рана была неглубокой, но крови довольно много, и она была теплой в вечерней прохладе. Нога цела и не заболит, пока не одеревенеет, — но я нарочно захромал, кидая второй раз, чтоб обмануть ее. Мой дротик шлепнулся на полпути, а у нее оставался еще один. Я повернул свой щит ребром к ней и достал из ножен меч.
Амазонки вокруг ликовали: а ну, мол, еще раз так же… Было слишком темно, чтоб увидеть полет оружия, я мог только следить за ее замахом, — и угадал, поймал дротик на щит. Это был стоящий бросок: пробил кожу щита, едва не просадив мне руку, и удар при этом был такой, что заболело плечо.
Я отскочил назад, наступил на древко ногой и выдернул его из щита, не переставая наблюдать за ней, — потом шагнул вперед с мечом в руке, и она пошла мне навстречу.
Было уже почти совсем темно, но еще можно было разглядеть, куда ставишь ногу. Это меня устраивало. Я рисковал в дуэли на дротиках при плохом свете, чтобы воспользоваться им потом: не хотел, чтоб она разглядела что я затеял. Борьба родилась в Египте и на Крите ее знали; уже со мной появилась она на острове Пелопа, а затем в Аттике… В Фессалии о ней лишь поговаривали, во Фракии — едва слыхали; а здесь был Понт… Когда она подумала, что живой ее взять нельзя, — я уже знал всё что мне надо.
Она кружила вокруг меня, гибкая и бесшумная как пантера. Сделала несколько пробных выпадов — из-за внутреннего края ее щита-полумесяца вылетал кривой клинок, и воздух свистел под ним, как вспоротый шелк… С этим оружием я мало имел дела, и оно мне не нравилось: поднырни под длинный эллинский меч — и дело сделано; а этим можно было оттяпать руку с любой дистанции… И рука моя, и оружие были длиннее; всё было бы просто, если бы я хотел ее убить…
«Как хорошо, что не каждый день выпадают такие головоломки!» — подумал и засмеялся этой мысли. Она тоже засмеялась в ответ, в сумерках сверкнули белые зубы… Она была бойцом, и в глазах ее появился боевой огонь: решила, что мой смех — знак пренебрежения, и это избавило от неловкости, навязанной признаниями моими. Теперь она фехтовала лучше… Но всё равно — в наших выпадах и защитах мы ощущали друг друга, как танцоры, кому часто доводится танцевать вместе; или любовники, говорящие между собой одним лишь касанием пальцев. Я подумал, что она тоже это чувствует, как и я… Хотя — ведь ее с детства отдали Богине так что она даже не видела мужчин — откуда ей знать?.. Если она и чувствует что-то странное в себе, — какое-то безумство, которому не знает имени, — принимает это за зов судьбы… Вот сейчас убьет меня в своей невинности, а потом будет тосковать, не зная отчего…
В основном я отбивал ее удары либо принимал их на щит, но иногда нападал и сам, чтобы она не догадалась, пока не подвернется мой шанс. А она уже почувствовала, что я затеял какую-то хитрость, это я знал точно. Хотел было выбить у нее меч, но это было ей знакомо, и такой дешевый трюк тут не проходил. «Так что же, — думаю. — Неужто я ждал, что она мне достанется даром? Надо рисковать!» Я быстро отскочил и бросил щит; в темноте мне удалось сделать вид, что на нем лопнул ремень и он упал. О таких фокусах она не имела понятия — и поверила. Когда теряешь щит, то, естественно, без оглядки бросаешься вперед. Я рубанул мимо и уже не мог защищаться мечом от ее удара, — вот оно — началось!.. Она замахнулась рубить, — меч над головой, — в этот миг я бросил свой в сторону и, схватив ее за руку, потянул с разворотом через свое плечо. Она так была ошеломлена, что я успел забрать у нее меч, пока она взлетала вверх. Было слишком поздно тормозить бросок, и она пошла дальше, как летучая кобылица, и упала чисто, но жестко, так что вышибло дух… Я бросился рядом с ней на траву.
Ее рука была еще в щите. Я лег на него, а другую руку прижал к земле. Она лежала лицом к небу, неподвижная, полуоглушенная… Я тоже не шевелился — голова кружилась от напряжения и от ее внезапной близости. Ее светлые волосы, пахнущие горами, щекотали мне губы, а под рукой, под вышитой кожей, ощущалась нежная грудь… Но боец во мне, не успевший расслабиться, вспомнил, что она быстра, как рысь, и еще не сдалась. Я поднес губы к ее уху и позвал: «Ипполита…»
Она повернула голову и глянула на меня дикими глазами, такие бывают у оленя в сетях. Отпустить ее сразу я не решился — и начал говорить. Что говорил — не помню, да это и не важно: всё равно я говорил по-гречески и она не понимала. Нужно было только, чтобы она знала, когда придет в себя, что я не враг ей. Но вот она начала оглядываться вокруг, и тогда я сказал на языке, который она понимала:
— Бой закончен, Ипполита, а ты жива. Сдержишь ты свое слово?
Стало уже гораздо темнее, но я видел, как она вглядывается в небо, словно прося совета. Не было совета: с горного хребта спустились тучи, и тонкий серп молодой луны спрятался за них.
Мои воины тихо переговаривались… Временами от амазонок доносился быстрый шепот… Было тихо. Вдруг она рванулась вверх; но не яростно, а так, будто хочет очнуться от непонятного, страшного сна… Я прижал ее к земле:
— Ну так как же?
Она выдохнула шепотом:
— Да будет так.
Я отпустил ее, встал и помог ей подняться, сняв щит с ее руки… Едва встав на ноги, она качнулась, — закружилась голова, — я поднял ее на руки, и голова ее поникла мне на плечо. Она лежала тихо, а я уносил ее с поля — и знал, что руки мои рождены ее носить; что я ее судьба, я ее дом.
2
Они дали мне коня для нее, я вел его в поводу. Позади, на Девичьем Утесе, звучал плач, — с флейтами, с приглушенными барабанами, — это была похоронная песнь по павшему, по погибшему царю… Я заглянул ей в лицо, но она смотрела прямо в ночь перед собой, неподвижными глазами.