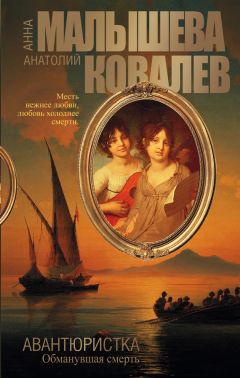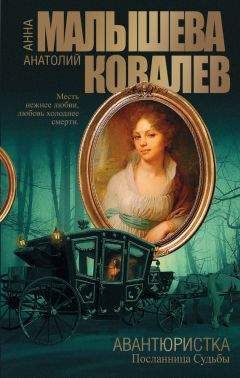Обманувшая смерть - Ковалев Анатолий Евгеньевич
Глеб даже испытал облегчение, получив тревожную записку от Елены. Велев Борису немедленно принять лекарство и заснуть, он поспешил уехать. В сумерках он вернулся, неся на руках драгоценную для него больную… Майтрейи больна! Если она умрет, к чему будут все его дипломы, к чему уважение коллег, даже похвала самого доктора Гааза? Майтрейи больна, Майтрейи умирает! Он боролся за ее жизнь вот уже сутки и все еще не мог сказать, что добился вожделенной победы.
Вымотанный до предела, он забылся на час, упав на постель в комнате, которую теперь делил с братом, как в детстве. И спал так крепко, что не услышал, как с соседней кровати поднялась белая тень…
…Борис сел, чутко прислушиваясь к дыханию спящего брата и жалобному похрапыванию Архипа. Затем осторожно встал. Ноги едва удержали его, он был так слаб, что испытывал отвращение к самому себе. Но остаться в постели он не мог. Прислушавшись и не уловив во всем флигеле никаких иных звуков, кроме дыхания спящих людей, он принялся карабкаться по лестнице на второй этаж, в комнату Евлампии.
Майтрейи больна! Майтрейи умирает! Вчера вечером, проснувшись после отъезда брата уже в сумерках и не видя никого рядом с собой, он выглянул в окно и увидел там приближавшегося к флигелю Глеба, несущего на руках прекрасную индийскую принцессу, героиню его снов и грез, вдохновительницу его стихов. Это было похоже на сон, на один из тех снов, которые так часто снились ему в последнее время… Только в своих снах Борис сам нес на руках Майтрейи через какие-то дивные цветущие сады, и она, обвив его шею смуглыми руками, неотрывно смотрела ему в лицо огромными, бархатными черными глазами ручной лани. Теперь же в объятиях Глеба девушка казалась мертвой. Позже, по суете, поднявшейся в сенях, на лестнице, во втором этаже, Борис понял, что Майтрейи устраивают прямо над его головой. Она была больна, и что он мог сделать, чтобы ее спасти? Только взобраться до середины лестницы – на большее у него не достало сил, и, вцепившись ослабевшими руками в перила, напряженно вслушиваться в тишину наверху.
Князь Илья Романович в эту ночь не спал вовсе. Он вернулся поздно в наемной карете, проведя перед тем и день, и предшествующую ему ночь неведомо где. Неслыханное дело для человека, который в последнее время стараниями Изольды Тихоновны сделался положительным домоседом, «домашней птицей», как шутил Летуновский. Никаких объяснений он никому по приезде не дал, как не сказал никому при отъезде, куда уезжает. Изольда, изумленная этой отлучкой, подбежала было к нему, чтобы по старой памяти отчитать, но князь взглянул на нее таким страшным взглядом, что женщина в смятении отступила. Войдя к себе в кабинет, князь кликнул Иллариона. Дворецкий бросился на зов, надеясь донести, наконец, на самоуправство Архипа. Уже сутки во флигеле находились незваные гости, уже сутки он пытался проникнуть туда, чтобы что-то разузнать, но каждый раз натыкался на своего врага, который многозначительно показывал бывшему разбойнику внушительный кулак. Илларион отступал, надеясь, что месть свершится и без драки. «А вот как вкатят тебе плетей, старая шкура, – мечтал он, сидя в комнате своей возлюбленной и попивая чай с наливкой, – так небо с овчинку покажется!»
Но князь не захотел и слушать доноса.
– Что?! – рявкнул он, не дав Иллариону сказать и нескольких слов. – Что?! Чепуха все! Борис жив?
– Живы, да только там, во флигеле…
– Что во флигеле?! – внезапно разъярился князь, хотя его любимец не сказал ровным счетом ничего крамольного. – Что ты пристаешь ко мне с пустяками?! Пошел вон отсюда!
– Да как бы вы сами после на меня не серчали, что я умолчал…
Это было последнее, что выслушал князь. Схватив сапог, который коленопреклоненный Илларион только что стянул с его ноги, он с силой швырнул его дворецкому в лицо:
– Пошел, говорю! Болтаешь много, когда не спрашивают!
Красный от гнева и стыда, взъерошенный Илларион выкатился в коридор, где его поджидала Изольда. Жеманно и насмешливо улыбаясь, играя ямочками на щеках, экономка негромко промолвила:
– А говоришь, давно служишь! Кто же под горячую руку барину суется? Хотела бы я только знать, что случилось?
А случилось страшное. Князь проигрался в пух и прах. Старая страсть, от которой он было совсем отстал, вновь предъявила права на его сердце и, казалось, на саму кровь, кипевшую при одном виде игорного стола и колоды карт. Визит Савельева, его расспросы об убийстве Гольца воскресили былые тревоги. После ухода статского советника Белозерский метался по кабинету, словно раненый зверь, ища убежища и не находя его. Взглянув в зеркало, он себя не узнал, так далеко были его мысли, и едва не вскрикнул. В такие минуты князь жалел о том, что совершенно равнодушен к вину, в котором можно утопить страхи и печали. Внезапно дикая, шальная мысль осенила его. Он кликнул Иллариона, но дворецкий куда-то отлучился. Изольда не показывалась. Князь не помнил, кто подал ему одеваться. Карету он закладывать не велел и уехал в наемной. Белозерский никогда не ездил играть в карете со своими гербами на дверцах – то была последняя дань уважения своему роду, которую он мог отдать.
Игорный угар длился ровно сутки. Когда вновь смерклось и князь взглянул в окно, он не сразу понял, сколько времени миновало. Он вспомнил о больном сыне, который, возможно, умер в его отсутствие, но страшная мысль прошла по краю сознания словно призрак, избегающий яркого света. Банкомет – длинный, тощий, почти бесплотный человек с тихим, шелестящим голосом и острым взглядом собрал со стола расписки Ильи Романовича. На зеленом сукне, исчерченном мелом, осталось лишь несколько смятых карт, пятна разлитого вина, капли воска, упавшие с оплывших свечей. Все было кончено.
– Обчистили, обобрали как мальчишку… – помертвевшими губами шептал князь, стоя у камина и глядясь в висевшее над ним зеркало. Его воспаленные глаза были страшны, они налились кровью. Он все еще был в одном сапоге – другой так и валялся на том месте, где стоял на коленях Илларион. Князь взялся за сонетку, чтобы позвонить и вновь позвать дворецкого, но передумал. Его ужасала необходимость отвечать на вопросы, которые рано или поздно воспоследуют.
– И что я скажу Изольде? – спросил он свое бледное отражение. – Если бы она дала денег отыграться, тогда можно бы снова поехать и… Но она не даст!
Он слишком хорошо знал свою экономку и сожительницу, своего «цербера», приставленного Летуновским к последним крохам родового состояния Белозерских. Князь мог бы просто рассчитать ее, тем более что былая привязанность давно остыла, и далее лично распоряжаться оставшимся капиталом… Но он больше не верил в свою звезду. В грандиозности его проигрыша было нечто роковое.
– Неужели придется продать за проигрыш библиотеку? – спросил он свое отражение. – Что же останется мне? Что я оставлю Борису?
Нежно любя сына, князь тем не менее редко думал о его будущем материальном благополучии. Он был не из тех отцов, которые откладывают каждую лишнюю копейку, чтобы сберечь для наследника рубль. Жизнь Ильи Романовича была истинной жизнью игрока, игрушкой Фортуны. Он разорялся, богател вновь, получив нежданно-негаданно наследство или попросту отняв чужое имущество, как произошло с Еленой Мещерской… И вновь разорялся, чтобы разбогатеть, как теперь, когда выяснилась истинная стоимость библиотеки, которой доселе интересовались только пауки, мыши да ненавистный, давно исчезнувший Глеб, которого Белозерский вынужден был называть сыном. И теперь вновь пришло разорение, только спасения было ждать неоткуда.
– Я погиб! – сообщил своему отражению Илья Романович, и как был, полураздетый, в одном сапоге, упал на диван, надеясь найти забвение во сне. Но сон к нему не шел. Не тревожили его и слуги – в доме стояла тишина, необычайная даже для такого позднего часа. Лишь однажды где-то очень далеко, в глубине дома, послышался приглушенный расстоянием женский смех и тут же смолк, словно задушенный поцелуем. Илья Романович тщетно прислушивался – все было тихо.