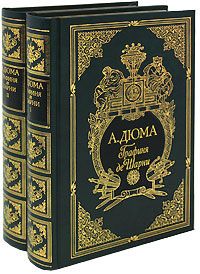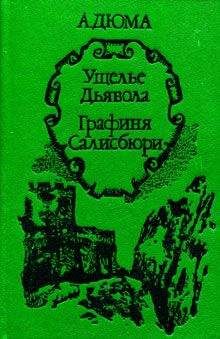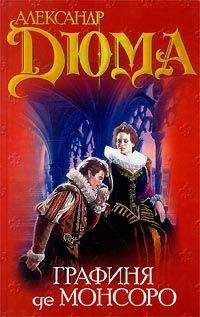Александр Дюма - Графиня де Шарни
— Граф, вы знаете, что я по натуре фаталист. Будь что будет! Пока я буду иметь на короля хоть какое-нибудь влияние, король останется во Франции, а я останусь при короле. Прощайте, граф; мы встретимся в бою и, возможно, падем друг подле друга на поле брани.
— Тогда можно будет с полным основанием сказать, что, как бы ни был умен человек, он не может избежать своей судьбы, — пробормотал Калиостро. — Я искал вас, чтобы сказать вам то, что сказал; вы все слышали… Как и предсказание Кассандры, мое предупреждение оказалось напрасным… Прощайте!
— Скажите откровенно, граф, — спросил Жильбер, останавливаясь на пороге и пристально вглядываясь в Калиостро, — вы сейчас, как и тогда, в Америке, пытаетесь уверить меня в том, что по лицу можете определять будущее человека?
— Жильбер! — отвечал Калиостро. — Я это делаю так же уверенно, как вы, глядя в небо, определяете путь звезды, в то время как большинство людей уверено в том, что звезды неподвижны или движутся хаотично.
— В таком случае… Кто-то стучится в дверь, слышите?
— Вы правы.
— Скажите мне, какая судьба ожидает человека, стоящего сейчас за дверью, кто бы он ни был. Скажите, какой смертью ему суждено умереть и когда это произойдет.
— Как вам будет угодно, — согласился Калиостро, — пойдемте откроем ему сами.
Жильбер пошел в конец описанного нами коридора, чувствуя, что не может справиться с сердцебиением, хотя он изо всех сил пытался убедить себя в том, что абсурдно принимать это шарлатанство всерьез.
Дверь распахнулась.
На пороге стоял изысканно одетый господин высокого роста, с волевым лицом; он бросил на Жильбера быстрый, не лишенный беспокойства взгляд.
— Здравствуйте, маркиз! — произнес Калиостро.
— Здравствуйте, барон! — ответил тот.
Заметив, что вновь прибывший опять взглянул на Жильбера, Калиостро представил:
— Маркиз! Господин доктор Жильбер — один из моих друзей… Дорогой Жильбер! Господин маркиз де Фаврас — один из моих клиентов.
Оба господина раскланялись.
Калиостро обратился к маркизу:
— Маркиз, не угодно ли вам пройти в гостиную и подождать меня: через пять минут я буду к вашим услугам.
Маркиз еще раз поклонился, проходя мимо Калиостро и Жильбера, и исчез за дверью.
— Ну что? — спросил Жильбер.
— Вам угодно знать, какой смертью умрет маркиз?
— Вы же сами взялись это предсказать, не так ли?
Калиостро странно усмехнулся, потом оглянулся, чтобы убедиться в том, что его никто не слышит.
— Вы когда-нибудь видели, как вешают дворянина? — спросил он.
— Нет.
— В таком случае смею вас уверить, что это любопытное зрелище. Постарайтесь заранее занять место на Гревской площади в тот день, когда будут вешать маркиза де Фавраса.
И он подвел Жильбера к двери со словами:
— Когда вам захочется зайти ко мне без предупреждения, чтобы вас никто не видел и чтобы вы сами никого не увидели, кроме меня, нажмите на эту ручку справа налево и снизу вверх, вот так… Прощайте и извините меня, не стоит заставлять ждать тех, кому не так уж долго осталось жить.
Он вышел, оставив Жильбера одного, ошеломленного уверенностью Калиостро, которая могла возбудить любопытство доктора, однако так и не победила окончательно его сомнения.
V
ТЮИЛЬРИ
Тем временем король, королева и члены королевской семьи продолжали свой путь к Парижу.
Карета продвигалась медленно: ее задерживали шедшие пешком телохранители; вооруженные до зубов торговки рыбой верхом на лошадях; рыночные грузчики и торговки верхом на увитых лентами пушках; сотня депутатских карет; около трехсот повозок с зерном и мукой, захваченных в Версале и усыпанных желтыми осенними листьями. Таким образом, лишь к шести часам вечера королевский экипаж, в котором скопилось столько всего — страдания, ненависти, страстей и невинности, — прибыл к городским воротам.
В пути юный принц проголодался и стал просить есть. Тогда королева огляделась; раздобыть немного хлеба для дофина было совсем несложно: каждый простолюдин нес кусок хлеба на острие штыка.
Королева поискала глазами Жильбера.
Как известно читателю, Жильбер последовал за Калиостро.
Если бы Жильбер был рядом, королева, не задумываясь, попросила бы у него кусок хлеба.
Однако она не хотела обращаться с подобной просьбой к окружавшей карету толпе, которая внушала ей отвращение.
Прижав дофина к груди, она со слезами в голосе стала уговаривать его:
— Дитя мое! У нас нет хлеба; потерпи до вечера — может быть, вечером у нас будет еда.
Дофин протянул ручку, указывая на людей, несших хлеб на остриях штыков.
— У них есть хлеб, — заметил он.
— Да, дитя мое, но это их хлеб, а не наш. Они ходили за ним в Версаль, потому что, как они говорят, в Париже они три дня не видели хлеба.
— Три дня! — повторил мальчик. — Они ничего не ели целых три дня, матушка?
Согласно требованиям этикета, дофин обыкновенно обращался к матери, называя ее «мадам»; однако теперь бедный малыш хотел есть так же, как дитя бедняков, и потому, проголодавшись, забыл об этикете и назвал ее «матушкой».
— Да, сын мой, — отвечала королева.
— В таком случае, — со вздохом заметил малыш, — они, должно быть, очень голодны!
Он перестал плакать и попытался заснуть.
Бедный королевский отпрыск! Еще не раз, прежде чем умереть, ему суждено, как и теперь, тщетно просить хлеба!
У городских ворот кортеж снова остановился, на сей раз не для отдыха, а для того, чтобы отпраздновать прибытие.
Это прибытие должно было отмечаться пением и танцами.
Странная остановка, почти столь же пугающая в своем веселье, как прежние — в своей угрозе!
Торговки рыбой слезали со своих лошадей, вернее, с лошадей гвардейцев, приторачивая к седлу сабли и карабины; рыночные торговки и грузчики слезали с пушек, представавших во всей своей пугающей наготе.
Толпа образовала хоровод вокруг королевской кареты, оттеснив от нее солдат национальной гвардии и депутатов, — страшный символ грядущих событий!
Эти люди с самыми лучшими намерениями, желая выказать членам королевской семьи свою радость, пели, орали, выли, женщины целовались с мужчинами, мужчины заставляли женщин подпрыгивать, как в бесстыдных кермессах на полотнах Тенирса.
Все это происходило почти в полной темноте, потому что день выдался хмурый и дождливый; вот почему толпа, освещаемая лишь пушечными фитилями да огнями фейерверка, приобретала из-за игры света и тени какой-то фантастический, сатанинский вид.