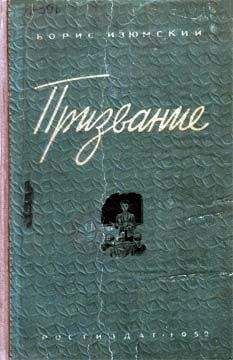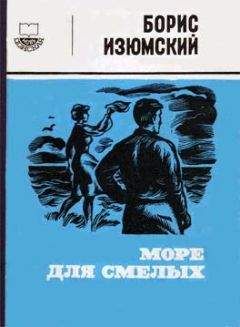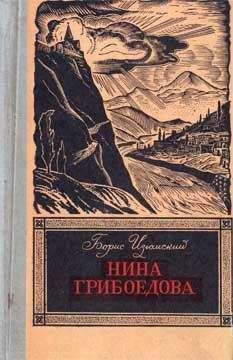Борис Изюмский - Тимофей с Холопьей улицы
Щупленький скоморох, сбросив с себя верзилу так, что тот покатился по земле, стал ловко играть на деревянных ложках, припевая:
У меня все богатство —
Кошка дойная
Да овин киселя,
Крыт сосновой корой…
Всем повинку даю:
По кунице посадничку,
По лисице тысяцкому,
А бирючу бедному
Белу горностаечку!
Народ, довольный представлением, бросал монеты, плясал, вместе со скоморохами двигался к городу.
Но яснее всего в шуме новгородского Торга проступал голос железа – самый сильный голос города.
Тимофей прислушался к нему: железо гирями падало на весы, пело пружинами хитрых замков, откликалось подковным цокотом, глухо ворчало в грудах кольчуг и шеломов, скрежетало напильниками и зубилами, нежно звенело и рокотало, как весенний гром.
Ух, силен, славен Господин Великий Новгород!
Они проходили посредине Торга, и Кулотка мимоходом успевал дать кому-то подножку, выпить, не платя, жбан браги, задрать кафтан молодому боярину. Шел, лихо сдвинув шапку на ухо, развернув плечи, озорно поблескивая глазами, то и дело смачно сплевывая.
– Побережись, квашня, не то черепок до мозгу пробью! – зычно предупреждал он, сбивая колпак с зазевавшегося толстяка, и тут же советовал ему через плечо: – Плешь зачеши! Загляделся, как гусь на зарево!
Возле ряда с пирогами молодая полная женка с такими маленькими подбородком и лбом, что лицо казалось приплюснутым, бросила сердито вдогонку Кулотке:
– Шатается, непутевый!
Кулотка замедлил шаг, лениво повернул назад, остановившись напротив женки, стал разглядывать ее с удивлением, словно забавную козявку.
Потом, кивнув в ее сторону, сказал Тимофею с наигранным восхищением:
– Красава! В окно глянет – конь прянет, на двор выйдет – собаки три дня брешут.
Женка, свирепо сверкнув глазами, уперлась кулаками в пышные бока, приготовилась принять бой, но Тимофей решительно потащил друга за рукав.
– Ну к чему те, задирщику, глумление такое? – говорил он, когда воинственная женка уже осталась позади. – Почто срамословишь?
– Скучно! – с каким-то необычным надрывом вдруг признался Кулотка и остановился: – Душа мятется!
Тимофей внимательно посмотрел на друга. Скрывая лукавую улыбку, сказал:
– Вспамятовал я: в Чевском государстве, близ града Праги, один злоклянущийся, любитель срамные слова кидать, обращен судом божьим во пса черного, мохнатого… лишь голова человечья осталась.
Кулотка усмехнулся, почесал кудлатый затылок:
– Схоже – и голова у меня собачья станет!..
Они подходили к Кулоткиной избе, стоявшей в конце Рогатицы – извилистой улицы над неглубоким обрывом. Тимофей рад был, что отвлек друга от мрачных мыслей, хотел сказать что-нибудь утешительное, душевное, но, не найдя нужных слов, вдруг предложил, легонько толкнув Кулотку в бок:
– Давай, кто кого перетянет?
Кулотка ухмыльнулся:
– Спробуй!
Они стали боком, сцепившись правыми руками, силились стянуть один другого с места.
Кулотка пыхтел. Оказывается, этого Тимошку Тонкие Ножки не так-то легко сдвинуть. Тимофей увертывался, делал обманные движения и наконец неожиданно резким выпадом сдвинул Кулотку, а сам остался на месте.
– Удалось картавому крякнуть! – недовольно пробурчал Кулотка.
Тимофей рассмеялся, шлепнул друга по спине:
– Это тебе не кулаком ширять! – и прокукарекал победно кочетом, вытягивая тонкую крепкую шею.
…Они сидели на высоком крыльце избы. Из-за покосившегося забора выглядывали темные, покрытые омшавелыми жердями, крыши соседских изб, словно спускавшихся по склону к реке. Возле забора стояла бочка с водой, на случай пожара.
– Скучно! – опять сказал Кулотка, с ненавистью поглядев и на эту бочку, и на забор, и на рябую курицу, проковылявшую с перебитой лапой. – Нет простора мне… Тянет в дальние страны.
Не однажды в последнее время мерещились ему опасные края, богатые бобром и куницей, нехоженые охотничьи тропы. Во снах видел, как пробирается с ватагой ушкуйников[13] за Онегу, минуя мшистые болота и ледяные озера. Ждали его в полуночной стране у Моря Сумрака[14] соболя и горностаи. Только добраться до них – и привезет домой богатую добычу и женится на крохотке своей Настасье, освободится от вечно полуголодной жизни.
А тут стал Незда собирать дружину ушкуйников – идти на Югру,[15] выкатил на улицу возле своего дома бочки с брагой, начал в долг продавать шеломы и мечи, снарядил ладьи. «Привезете меха, – говорил он, – долг вернете, за подмогу каждую третью шкуру мне отдадите, остальное куплю, не скупясь».
Кулотка с помощью Авраама сделал себе меч, набил зипун железками, продал нагрудную гривенку и на вырученные деньги купил лук со стрелами. Отец подарил Кулотке свой деревянный, окованный железом щит, хранивший метины еще половецких стрел. Мать поплакала было, да потом смирилась – все едино не удержишь. Надев на себя доспехи, Кулотка предстал перед Нездой. Тот оглядел его прищуренными глазами, усмехнулся:
– Слыхал, битливый[16] ты! Нам такие молодцы надобны! – Про себя подумал: «Уедут – в городе спокойней станет».
Сейчас, рассказав другу обо всех своих приготовлениях, Кулотка нетерпеливо ждал, что ответит тот, и виновато добавил:
– Застоялся я… Размяться б, силу спробовать.
Тимофей добро посмотрел на друга. Лицо его было обветрено, загорело, и только у верхней губы, в самом уголке, белело пятнышко – можно было подумать: прилип в этом месте листок, и солнце не проникло через него. И полные губы, и это пятнышко придавали его лицу выражение детской наивности, которое никак не вязалось с богатырской фигурой.
– Только не лезь на рожон, – попросил Тимофей и неожиданно мечтательно добавил: – Вот бы и тех людей, дальних, грамоте обучить!
– Да тебе-то от этого что? – удивился Кулотка.
– Ты не обижайся. – Тимофей одной рукой притянул его к себе. – Мыслю: неграмотный, что незрячий, – глядит, а не видит…
Догорал вечер; казалось, красное небо нещадно сек синий ливень. В чуть подернутом рябью синевато-розовом Волхове спокойно отражались стены Детинца, купола собора…
«Тиха вода, да от нее потоп живет», – вспомнил Тимофей слова Авраама, что произнес тот недавно с угрозой в голосе, видя, как по улице боярские стражники вели должников. Тимофей еще подумал тогда: «Какой потоп?», но вопроса задавать не стал.
А сейчас вдруг понял, о чем говорил учитель, и сердце тревожно сжалось.
В МИРЕ КНИГ И РУКОПИСЕЙ
Перелистывая рукописи нездинской библиотеки, Тимофей подолгу задерживался на тех из них, что были изукрашены причудливым плетением фигурок зверей и птиц… Звери стояли на задних лапах, лизали свои спины, птицы шествовали, воинственно распустив хвосты. Писец Митька, рисовавший когда-то их, видно, до того сам залюбовался своей заставкой, что не выдержал и сбоку приписал: «А люба заставица!» Тимофей скупо улыбнулся этой похвальбе мастера: и впрямь люба!