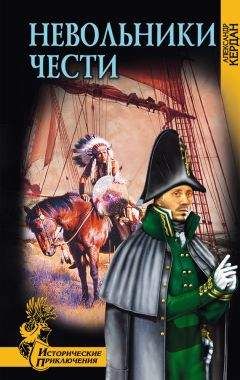Александр Кердан - Крест командора
Её отец Иван Суров был тверским дворянином-однодворцем. Он, кроме одноэтажного деревянного дома в отцовской деревне, не имел ни душ, ни угодий и по бедности своей никогда бы не выбился в люди. Закончил бы век приживальщиком у какого-нибудь именитого родственника или же тиуном в имении у богатого соседа. Но начатые царём преобразования открыли дорогу для таких, как он, молодых людей, пусть и не имеющих богатства, но неглупых и жаждущих послужить Отечеству. После окончания навигацкой школы Суров был назначен штурманом на малый корабль на Балтике. В строящейся столице на одной из ассамблей он познакомился с будущей матерью Кати – Марией, дочерью такого же небогатого дворянина, служащего при Адмиралтействе. Вскоре они повенчались в единственной на ту пору Троицкой церкви. И хотя Суров никакого приданого за Марией не взял, женитьба самым нечаянным образом помогла его продвижению по службе.
Двоюродная сестра Марии – Елизавета была замужем за Антоном Девиером. Он ещё юнгой познакомился с Петром Алексеевичем на верфях в Амстердаме и, приехав вслед за царём в Россию, сделал здесь стремительную карьеру. Будучи моложе Сурова на несколько лет, Девиер уже носил чин генерал-адъютанта и исправлял должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга. К тому же Елизавета была внебрачной дочерью светлейшего князя Меншикова.
По протекции новых родственников получил Иван Суров под начало галеру и честно прокомандовал ею более десяти лет. На ней вступил в очередную кампанию со шведом. Жена и дочь со слезами проводили его в поход, точно предчувствуя, что никогда больше не увидят. Поговорка: жди с моря горя, а беды от воды, оказалась пророческой. В знаменитом сражении при острове Гренгам в конце июля 1720 года лейтенант Иван Суров геройски погиб при абордаже шведского фрегата. В честь доблестной победы русского галерного флота была выбита медаль, на коей значилось излюбленное выражение Петра I: «Прилежание и храбрость превосходит силу». Медаль сия была вручена государем вдове и дочери погибшего, но послужила слабым утешением их горю.
Матушка Кати ненадолго пережила своего Ваню, вскоре начала чахнуть и через год отдала Богу душу. Только и остались Кате от родителей, что светлая память да песня, которую любила напевать матушка:
Иван да Марья в реке купались.
Где Иван купался,
Берег колыхался.
Где Марья купалась,
Трава колыхалась…
Осиротевшую Катю взяли в свой дом супруги Девиеры, у которых собственных детей не было. Жилось ей у родственников не сказать, чтобы худо, но всё же не как в отчем доме. Тетушка Елизавета, конечно, жалела её, а дядюшка, напротив, был сдержан и даже суров. И вовсе не потому, что был он злым человеком. Просто Антон Эммануилович Девиер более всех людей любил канареек. Этих певчих птах он выписывал из-за границы, не жалея никаких денег. Мог часами наблюдать за диковинными птицами, кормил их, менял в блюдечке воду. И если о чем-то заговаривал с осиротевшей племянницей, так о своих канарейках.
– Слышите, ma chere[8], как они поют? – мешая русские и французские слова и покручивая смоляную прядь парика, с придыханием говорил он. – Эта золотистая ľoiseau[9], не смотрите, что так мала, может звенеть серебряным колокольчиком, а вот эта, зеленая, заливается овсянкою. Но дороже всех обошелся мне вон тот желтый красавчик. Он умеет свистеть и дудкой, и россыпью. О, сие настоящий пернатый Орфей! Charmant[10]!
Катя с неизменной улыбкою выслушивала дядюшкины восторги. Она еще не знала, какую злую шутку сыграет с ней его любовь к райским птичкам…
А пока она жила, так же как канарейки, – в золотой клетке, не ведая ни особого сочувствия, ни особых печалей. Со временем притупилась боль от потери родителей, и вскоре Катя начала выходить в свет.
Фортуна ей благоволила. Природные грация, красота, живой ум, да и близость дядюшки ко двору – всё это немало способствовало ее успеху. В восемнадцать лет Катя стала любимой фрейлиной императрицы Екатерины Алексеевны. Она ловко танцевала, без жеманства выслушивала комплименты, умела поддержать светскую беседу на французском и немецком. Придворные щёголи наперебой ухаживали за ней на ассамблеях и куртагах, но сердце её оставалось пока свободным от стрел Амура.
Известие об опале Девиера и предстоящей ссылке прозвучало для Кати как гром среди ясного неба. Предшествовавшая этому смерть Екатерины Алексеевны лишила её могущественной покровительницы. Следуя законам двора, мгновенно отвернулись от неё все прежние волокиты и куртизаны. Можно было, конечно, пасть в ноги к победившему в придворной интриге светлейшему князю Александру Даниловичу – как-никак родственник. Но отречься от опальных Девиеров и остаться в Санкт-Петербурге, как делали жёны и дочери некоторых ссыльных, Катя не смогла. Да и что были бы её просьбы, если Меншиков не пощадил собственной дочери и зятя.
Дядюшке, лишённому всех чинов и состояния, светлейший разрешил, точно в насмешку, взять с собой из всей челяди только одного слугу, а из имущества – канареек. Слуга на пути в Якутск подался в бега, а заморские пташки, привыкшие к неге, не выдержали суровой дороги: умерли одна за другой. Все кроме дядюшкиного любимца – жёлтого кенаря. Следом за птичками в первую же ссыльную зиму ушла из жизни и тётя.
Дядюшка тогда пристрастился к казёнке, пытался на дне бутылки найти утешение. А когда он напивался, так искал развлечение в картах. Официально запрещенная в столице азартная игра, очевидно, воспринималась им, как некий протест против опалы, да и время, что ни говори, скрадывала. Интересант, то бишь компаньон, в этих двух занятиях сыскался тут же – его товарищ по несчастью, бывший генерал-майор и обер-прокурор Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Какое-то время они были просто не разлей вода.
В один из вьюжных вечеров собутыльники засиделись в избе у Девиера. Они продымили всю низкую горницу трубками, громкими выкриками и препирательствами не давали Кате уснуть.
Играли в ломбер – новую игру, коей, по дядиным словам, незадолго до ссылки научил его по секрету французский резидент в Санкт-Петербурге Жан Маньян. Игра сия, как дядя узнал от соотечественника, в прошлом году в Париже была самым что ни на есть любимым развлечением знати, и французские аристократы проигрывали за ломберным столом целые состояния.
– А мы, генерал, с тобой ужели х-хуже пар-рижан? – икая, вопрошал Девиер у сотоварища. Как ни странно, когда дядюшка пьянел, то значительно лучше говорил и понимал по-русски. Хлебнув казенки, он продолжал: – Б-у-удем играть на деньги!