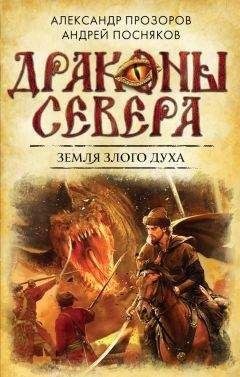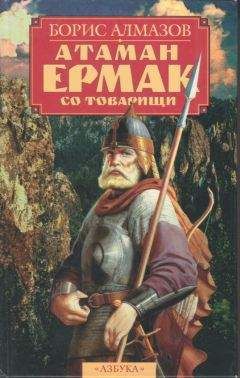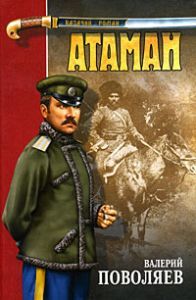Владимир Буртовой - Последний атаман Ермака
Игнат встретил казаков и женщин приветливой улыбкой, молодцевато — а ему было не более тридцати лет — расправил плечи.
— Проходите, гости дорогие, проходите, будьте теперь как у себя дома. Сказывал мне сотник, атаман Матвей, что до Астрахани сплываете вы на стругах… Ежели оставишь мне в уплату за избу до будущего лета своего коня, то и денег с вас не возьму, живите преспокойно и безбоязненно. Конь, знаю, у тебя добрый, сам видел, и мне в ратной службе беспокойной будет за верного сотоварища. Сговорились? — стрелецкий десятник, слегка смущаясь под любопытными женскими взглядами, старался смотреть на Матвея, а не на его спутниц.
— Сговорились, Игнат! Завтра поутру приведут тебе моего жеребца. Служил мне это лето, со дня нашего прибытия на Кош-Яик, и тебе добрый десяток лет прослужит, ежели счастливо убережется от ногайской стрелы или еще какой напасти! — Атаман был рад, что так легко удалось сыскать Марфе и тестю доброе жилье в новом городе, глянул в слюдяное оконце, в надежде увидеть поверх частокола недалекую, за песчаной полосой Волгу и Жигулевские горы, но оконце отпотело от жарко протопленной печи, разглядеть что-нибудь на улице из-за вечерних сумерек и непогоды было просто невозможно.
Ортюха Болдырев неспешно развязал кожаную кису, без счета высыпал в широкую ладонь десятка два серебряных новгородок.[38]
— Это тебе, Игнат, за дрова, что ты наготовил в зиму, — сказал Ортюха удивленному стрелецкому десятнику. — Бери, будет тебе скромничать! Теперь сплывем в Астрахань со спокойной душой, что, воротясь, найдем своих красавиц живыми и тепленькими: нужны ли нам будут три мерзлых кочерыжки… Молчу, молчу, это не про вас грешным языком сбрехал! — тут же покаялся со смехом Ортюха, увидев, как княжна Зульфия молча, но с нахмуренными бровями, потянула из ножен изящный, серебром украшенный клинок кинжала. И снова к Игнату: — Да, вижу, у тебя уже есть в избе кадь под воду, две бадейки, чугунки и кувшины. Все это тако же не пять-шесть денег[39] стоило!
Наум Коваль в сопровождении молчаливого Томилки осмотрел избу придирчивым знающим взглядом, не нашел никаких изъянов. Промысловик перекрестился на правый угол, где была уже сделана аккуратная полочка под икону, но пока без таковой и без лампадки перед ней, одобрительно сказал, обращаясь к стрелецкому десятнику:
— Ну вот, вижу, что добрый мастер избу срубил, а тараканы непременно свою артель приведут, это уж как водится на Руси! Икону и лампадку с собой возим, поместим Господа в жилой угол, и потолок высок, даже я макушкой до матицы не достаю, хотя бы и подпрыгнул.
Казаки посмеялись, Ортюха тут же скаламбурил:
— Не к лицу бабке девичьи пляски! Но ежели ты, Наум, плясать учнешь в избе вместе со скоморохами, так к счастью, воистину лба себе о притолоку не расколешь!
Скромно улыбаясь, Игнат Ворчило пояснил, что чужие скоморохи в новый город еще не заезживали, и своими доморощенными потешными людишками Самара не обзавелась.
— Не беда, Игнат! Вот ворочусь из похода, поставлю пищаль и бердыш в угол, саблю повешу на стенку, да и вспомню былые молодецкие годы, когда потешал московский люд на торгах, не страшась возможного гнева скорого на расправу царя Ивана Васильевича! Тот, сказывали московские купчишки, и сам не прочь иной раз скоморохом заделаться, отчего у многих бояр поджилки в ногах тряслись от страха!
Матвей вспомнил свое пребывание в Москве, посмеялся и на немой взгляд Марфы пояснил:
— Будучи у князя Ивана Петровича Шуйского в гостях, слышал его рассказ о таком скоморошестве покойного царя. Когда в тысяча пятьсот семьдесят первом году к нему прибыли послы крымского хана с требованием дани со всей русской земли, царь Иван Васильевич нарядился в сермягу, бусырь[40] да в драную баранью шубу. Так же повелел одеться и всем своим боярам. Когда крымские послы вошли в палату и стали вертеть головами, не понимая, куда они попали, царь объявил им такими словами: «Видишь же меня, посол, во что я одет и бояре мои? Так это по вине крымского царя! Это он мое царство выпленил и казну пожег, потому и дать мне вашему царю нечего!» — Крымский хан счел такой ответ оскорбительным и на следующий год привел под Москву сто двадцать тысяч крымско-турецкого да ногайского войска. Однако под Молодью поимел от русского войска крепкую битву и с позором, понеся изрядные потери, бежал в свой Крым! Вот как приходилось в иную пору скоморошничать даже царям!..
После некоторого молчания Томилка Адамов, почесывая сквозь черную бороду кадык, с хитринкой проговорил:
— Ты, Ортюха, пока казаковал, поди, все скоморошьи припевки позабыл, не так ли?
Есаул догадался, что Томилка просто хочет подтолкнуть его на какую-нибудь забаву, чтобы она осталась в памяти женщин после их скорого отъезда из Самары, потому и принял вызов, руками развел, прося всех отодвинуться к единственной лавке у стены напротив обмазанной глиной, но еще не побеленной печи, заломил баранью шапку с беличьей опушкой, подбоченился и, приплясывая, пошел по горнице, напевая давно сорванным на ярмарках голосом:
Досталось братьям два поместья,
Неведомо в каком месте,
У Еремы деревня, у Фомы сельцо,
Деревня пуста, от села одно крыльцо.
У Еремы клеть в четыре столба,
У Фомы роскошная изба,
Клеть пуста, а от избы одна труба.
Ерема видал, как боярин гуся едал,
Боярин кости швырял,
Фома кости подбирал.
Радуйся, простой народец,
Коль репьем засеян огородец!
Ортюха остановился напротив смущенной княжны Зульфии, притопнул ногой, раскланялся перед ней и протянул снятую шапку, как бы прося подаяние:
— Выверни, мужик, карман, не будь болван, достань деньгу, пропить помогу, а не дашь деньги, так карман береги, запущу сам лапу, сниму лапти и шапку!
Марфа, Зульфия и Маняша от восторга захлопали в ладоши, а Игнат Ворчило, огладив рыжеватую бороду, от удивления даже головой покачал со словами:
— Воистину, не забыл ты, казак, былое ремесло! Как знать, может и вправду оно тебе еще сгодится к старости, когда Самара умножится посадским народом… Ну, казаки, обживайте избу, мне к службе в досмотр стен поспешать надобно. Ежели в чем какая нужда будет, — Игнат повернулся к Науму, — сыскать меня не трудно, я на постой иду к брату моему Роману. Он через три двора от вас избу себе поставил. Тако же покудова без женки с детишками, вдвоем и будем зимовать. Завсегда могу помочь, чем смогу. С богом, живите счастливо, — стрелецкий десятник откланялся и направился к двери. У порога его остановила Марфа приветливыми словами: