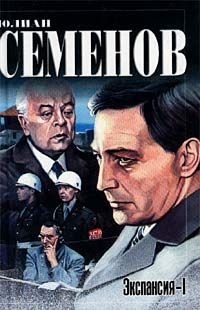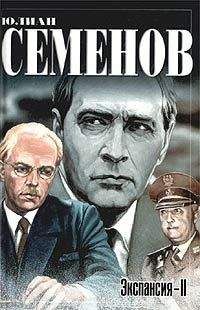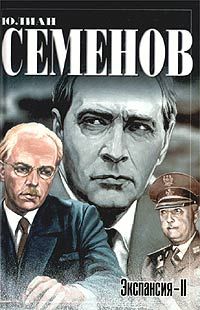Юлиан Семенов - Экспансия — I
В-четвертых. Не предпринимай ничего резкого, что может накренить лодку; когда ты начерпался воды, падает скорость и нарушается устойчивость, а именно это, боюсь, нам будет потребно прежде всего...»
Роумэн посмотрел на часы. Прошло больше получаса; теперь тяни, сказал он себе. Ты обязан не дописать это письмо, оно должно остаться здесь завтра утром. Чтобы все это выглядело естественно, ты должен проспать, сыграть досаду, когда посмотришь на часы; позвонить в посольство, вскочить с кровати, выпить молока, сказать Кристе, которая кинется делать тебе кофе, что вернешься пообедать, опаздываю, очень важное дело, до встречи, и уйти, оставив письмо в каретке, и ждать, что произойдет потом, ох, лучше бы ничего не произошло, ну, держись тогда, Штирлиц, не хотел бы я оказаться на твоем месте, если ничего не произойдет, ох, не хотел бы...
Ровно через сорок пять минут — он смотрел на секундную стрелку — Кристина крикнула с кухни:
— Пол! Макароны имени Италии ждут тебя!
— Иду!
— Сделать кофе? Или чая?
— Сделай еще один стакан «смирнофф», — ответил он и поднялся из-за стола.
...Назавтра он приехал на конспиративную квартиру Эронимо и устроился возле аппарата, ожидая данных наблюдения за своей же квартирой, за Кемпом и Штирлицем, а также данных прослушивания телефонных разговоров в его же доме.
Господи, только бы ничего не было, только б я убедился, что все это хитрая игра гадов, думал он, я бы тогда даже не стал крошить скулу Штирлицу, я бы просто отправил его — и Эрл Джекобс не откажет мне в этом — в Экваториальную Гвиану, там европейцы не живут больше года, смерть наступает от желтой лихорадки или проказы. Пусть бы он там гнил заживо, нет ничего приятнее, чем наблюдать медленную гибель врага. Расстрел — это избавление, повешение — тоже избавление; если бы Гитлер попал нам в руки, его бы повесили, а это так несправедливо, его бы надо было казнить медленно, годами, надо было бы созвать консилиум садистов и поручить им придумать такую муку, которая бы заставила других гитлеров много думать, прежде чем начинать новый ужас, прежде чем говорить своему народу, что он — самый великий, самый справедливый, самый мужественный, что ему мешают евреи, или большевики, или банкиры, или — времена меняются — зулусы, христианские демократы, безработные, только не думай, мой народ, о том, что тебя обирают твои же единокровны, что именно они делают все, чтобы ты не стал мыслящей личностью, ограничивают тебя в правах на то, чтобы ты проявил себя там и в том, где ты можешь себя проявить, только не смей думать о том, что дьявол всегда таится внутри нас, это ведь так удобно для гитлеров делать себя вне критики, указуя перстом на виновных в народных невзгодах где угодно, только не в своем доме...
— А что все-таки случилось, Пабло? — спросил Эронимо; (он называл Роумэна не «Пол», а «Пабло», по-испански); сегодня полковник был в нежно-голубом костюме; он менял их ежедневно, его гардероб, казалось, был составлен из всех цветов радуги; глядя на Эронимо, не надо было гадать, какой сегодня день: в среду он надевал синий костюм, в четверг — бежевый, в пятницу — салатный, понедельник был отмечен голубым, вторник — черным, в этот день он делал доклад руководству, — генерал Эспиноза был человеком старой закваски, долго жил в Германии, черный цвет почитал самым достойным для чиновника, мирился лишь с красным или голубым галстуком, да и то потому, что черно-бело-красное определяло цвет нацистского флага, а голубое — символ фаланги, очень патриотично.
— Что? — рассеянно переспросил Роумэн. — Я не слышал тебя, прости...
— Я спрашивал... У тебя какие-то неприятности?
— Пока — нет, — ответил Роумэн. — Ты убежден, что данные нашего наблюдения не будут оформлены в документ, который придется доложить генералу?
— Не думай об этом.
— Я не могу об этом не думать, Эронимо. Я не хочу, чтобы об этом мероприятии знал кто-либо, кроме тебя.
— Не исключено, что об этом узнают другие.
— Кто именно?
— Фернандес.
— Тот, который сражался в «Голубой дивизии»?
— Да.
— Значит, об этом узнают его немецкие друзья?
— Вряд ли. Его сын должен ехать в Нью-Йорк. Он мечтает дать парню ваше университетское образование. Да и потом сейчас не очень-то модно дружить с немцами... Заметил, пресса стала всячески подчеркивать, что мы были нейтральны во время войны?
— Можешь пообещать Фернандесу помощь... Я окажу содействие его сыну, посмотрю, чтобы мальчику уделили внимание в Нью-Йорке, пусть только держит язык в заднице.
— Хорошо, я с ним переговорю... Но он же не нуждается в деньгах... Его тесть купил фабрику в Севилье...
— «Уделить внимание» вполне гуттаперчевое выражение, Эронимо. Его можно трактовать по-всякому... Можно уделить внимание для того, чтобы бедному парню не плюнули в лицо за то, что его отец воевал на стороне Гитлера... Объясни ему, что в Штатах очень не любят тех, кто был с нацистами... У нас ведь разговор короткий, оружие может носить каждый, право закреплено в Конституции — «для защиты собственного достоинства»... Передай, что я готов с ним увидеться.
— Хорошо. Я это сделаю.
— Объясни, что сегодняшнее наблюдение было нужно не столько для дела, сколько для меня лично... Скажи, что я ревнивый старик и что на услуге, которую ты мне оказываешь, меня можно взять на крючок... И это будет выгодно не столько дедушке, сколько тебе, лично тебе... Ну, и, понятно, ему, Фернандесу...
Эронимо усмехнулся:
— Все-таки американцы неисправимые люди; всем хотите навязать свою логику, всем и во всем. Нельзя в разговоре с испанцем, в котором тем более ты заинтересован, употреблять слово «выгода», Пол. Это не по правилам, не по нашим правилам, понимаешь? Надо говорить о родстве душ, о законе дружбы, о готовности на любую жертву, о том, что тебя не интересует корысть, что ты ненавидишь тех, кто думает о выгоде, это удел арабских мудрецов и еврейских торгашей, ты должен говорить о возвышенном и вечном, тогда только взрыхлится поле для делового сотрудничества, в котором учтены все ставки...
— Ничего, — усмехнулся Роумэн, — когда выписываешь чек без всяких там рассусоливаний, это тоже не так уж плохо. Мы не видим ничего обидного в деловом партнерстве.
— А мы видим. Когда ты выписываешь чек и говоришь, чтобы я обратил деньги в пользу обездоленных, это — по нашим правилам, хоть я на эти деньги сразу же куплю бриллиант своей подруге... Но если ты сунешь мне конверт на расходы, я обязан бросить его тебе в лицо... Мы же Дон Кихоты, не забывай это, самые иррациональные рационалисты...
— Слава богу, ты — исключение.
— Так я не испанец. Меня перепутали в родильном доме, мама лежала в одной палате с женой английского дипломата, ей меня по ошибке подсунули в кровать, у меня же островной менталитет, Пабло, я прагматик с рождения, я начал копить деньги в детстве, как настоящий инглез, — усмехнулся Эронимо, — испанец брезгует этим занятием, для него главное — разговор о возвышенном, мечта о несбыточном, рассуждение о бренности, а не земной суете...