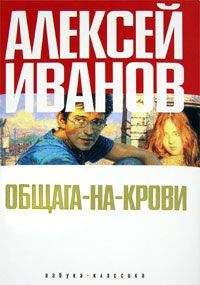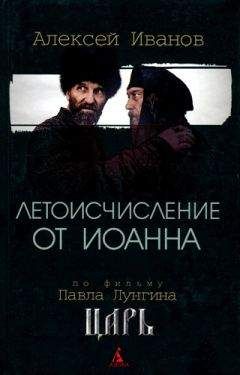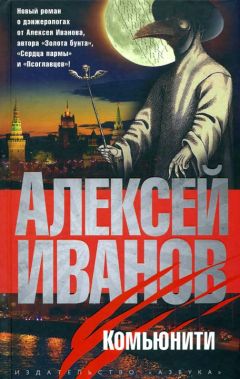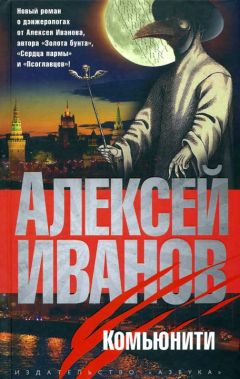Алексей Иванов - Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор
А ведь ему было всего под сорок. Но он огляделся и увидел рядом с собой своих детей. Матвей превратился в плечистого, рослого и статного парня, черного, как уголь, красивого, с полоской еще мягких усиков над упрямо изогнутыми губами и с темным, грозовым взглядом колдовских материнских глаз. При встрече с ним прятались девки и краснели молодухи-вдовицы, у землянок которых по ночам бил копытом Матвеев конь. И совсем другой была Аннушка, уже превращавшаяся в девушку, тоненькая, улыбчивая и тихая, как речная кувшинка, не по-княжески стыдливая, закрывавшаяся рукавом, если проходящий мимо орел-ратник приосанивался, начинал накручивать ус и бесстыже подмигивал. Рядом с такими детьми Михаил и вправду казался старым, да и мало вокруг уцелело тех, кто помнил его иным. Кто? Калина и Дионисий — все. Пропала, исчезла, затерялась в вогульских янгах Тиче, и сердце порой всхлипывало перебоем.
Достроить весь острог до снегопада не успели. Михаил распорядился оставить до весны княжий дом и гридницу, церковь, амбары и конюшни, возведенные только по нижние венцы. И под первым снегом все же поднялись над тыном острые шатры башен, перекликавшиеся с остриями елей, как колокольный звон с громом за Полюдовым камнем. В новом остроге Михаил оставил на зиму сотню Вольги Онежанина, а сотни Матвея и Бархата отправил в Покчу.
Впервые за несколько лет было людно и весело на острожном холме, когда над снегами лишь еле-еле брезжит пасмурный день, а ночи светлее дня от дивного размаха лазоревых и серебряных позарей. Зима навалилась, как медведь, помяла Чердынь, треща костями, и уползла прочь, в ледяные пещеры на самоедских островах.
Лето началось вестью о бунте в Пыскоре. Матвей, радуясь делу, повел дружину за Соликамск. Но пришел он поздно. Пыскорцы, понесшие ясак в храм, оставили князя Колога без дани, и Колог, взбесившись, с немногими родичами напал на храм. Попы дрались насмерть и сгорели вместе с храмом и рухлядью в подклете. Пыскорцы, боясь чердынского гнева, сами повязали и задушили Колога, а подоспевшему Матвею показали его голову на колу. Бунтовать дальше они не думали. Кланяясь, они пообещали нести ясак как прежде, только пусть не будет у них больше ни князьца, ни храма. Раз в год приедет сборщик из Чердыни — и довольно. Матвей согласился, если отец не станет возражать. Филофей попробовал уговорить князя силком вернуть в Пыскор храм, но Михаил не пошел против воли пермяков.
Посреди лета Михаилу сообщили, что из Урола выплыл небольшой караван во главе с князем Юксеем, и направляется он вверх по Вишере к вогулам. Михаил перехватил урольцев в Кондратьевской слободе. Юксей был зол и надменен.
— Ты отнял у нас наших богов, а мы не хотим молиться Христу. Он скуп, — сказал Юксей. — Мы уходим в Югру навсегда.
— Но в Мансипале ты будешь поклоняться не своим богам, а вогульским, — возразил Михаил, уже поняв, в чем дело.
Юксей не нашел что ответить, только крикнул:
— Ты вероломный князь! Ты московит!
— Ты, Юкся, прячешься за ложь, — ответил Михаил. — У тебя не стало богатства и дружины, и ты потерял власть в своем увтыре. Твой род тебя не уважает. Поэтому ты бежишь.
— Кто будет уважать бедного и слабого?
— Князь силен умом и богат мудростью. Таким был, например, Пемдан. Без дружины правят своими родами Керчег Янидорский и Неган Акчимский. Разум Пемдана унаследовал Кейга. Ты меня назвал московитом, но ведь не я изгнал тебя, пермского князя, а твой род.
— Ты лукав, я не знаю, что тебе сказать! — вспылил Юксей. — Но я уйду к вогулам и отныне стану твоим врагом!
И Юксей ушел — оскорбленный, негодующий, ничего не понявший.
Этот год готовил еще одну неожиданность для князя. Бабьим летом к Чердыни снизу подошли большие пермяцкие каюки с людьми и грузом. Это с Иньвы, с Майкора и Кудымкара приплыли князья Кудым-Боег и Елог.
Народ облепил валы острога, глядя, как перед новым княжьим домом пермяки расстилают на земле холстины и выкладывают на них меха, золото, угощенья. Кудым-Боег поклонился Михаилу по-русски.
— Я к тебе, князь, со сватовством, — сказал он.
— А… кого сватаешь?.. — изумился Михаил.
Боег сморщил лицо, пряча усмешку.
— Дочь твою, Анну, сватаю себе в жены.
Михаил обомлел.
Аннушка, вспыхнув, метнулась с крыльца в дом.
Потом уже, оставив гостей на пиру, Михаил уединился с Боегом в маленькой горнице. Молодой пермяк настораживал князя. Что это за сватовство такое? Зачем? Отчего? Что нужно кудымкарцу? Женитьбой укрепить свое княжение, пошатнувшееся без ясака и дружины?..
— Не по нашему обычаю твое сватовство, — сказал Боегу Михаил.
— Русских обычаев я еще мало знаю, — согласился пермяк, — Как уж придумал, так и посватался. Ты и сам жену брал не по обряду.
Боег был смел, глядел прямо в глаза, не юлил. Михаил почувствовал в нем искренность и силу духа.
— Почто дары такие богатые? Может, я тебя заверну с порога?
— Верю, что не завернешь. А дары мои богаты оттого, что ты беден. Нечего тебе дать за дочь.
— Дерзишь.
— Прости. Но это правда. Я же не всем, а лишь тебе это говорю.
— Шибко ты спор на речи.
— Не обессудь, князь, таким уж уродился. Я тебя обидеть не хочу. И дурно обо мне не думай. Не корысти ради я приехал, и не ради крепости своего княжения. Я твою дочь полюбил. Верно говорю.
— Когда же ты успел? — хмуро поинтересовался Михаил.
— А прошлым летом, когда острог ставили.
Михаил глядел в серые, честные глаза Боега. Вроде бы видел он тогда эти глаза, из толпы устремленные на его дочь… Да мало ли в Перми Великой серых глаз?
— Мала еще Нюта замуж выходить. Еще в куклы не доиграла.
— У нас такие девочки уже бывают женами. Да и у татар, и у вас тоже бывают. У московского кана Ивана первая жена двенадцати лет была.
— Ну и не к добру то вышло.
— Я согласен с тобой, князь. Сестру свою таких лет я бы мужчине не отдал.
— А чего ж мою дочь сватаешь? Чужого не жаль?
— Не гневись на меня, князь. Знаю, что рано приехал. Но уж так мне дочь твоя к сердцу припала, что боюсь потерять ее. Ведь стану ждать — так другой уведет. Может, тот же Елог, который сейчас в верности клянется и в дружки к жениху просится.
— От твоей опаски она не повзрослеет.
— Я тебе слово мужчины дам и поклясться могу хоть на вашем кресте и волшебной книге, хоть на своей тамге прадедовской, — я возьму ее в жены и не нарушу, покуда ей пятнадцати лет не исполнится. Отдам матери своей и теткам — они добрые, — пусть только живет рядом со мной, моей любовью согретая. Я ее не обижу и слово сдержу. Коли солгу — убей меня, рукой не шевельну защититься. В парме слово Кудым-Боега все уважают. Мы, род Медведя, вероломства никогда не допускали.