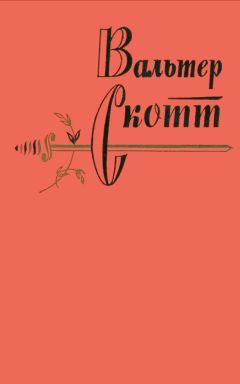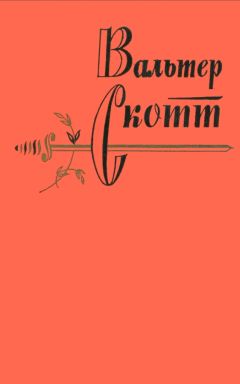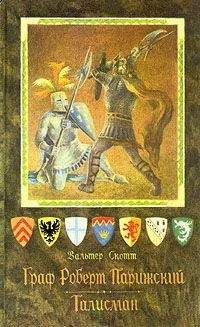Вальтер Скотт - Квентин Дорвард
— И правда, не стоит, — согласился король. — Не стыдно ли, что такой вздор занял нас хотя бы на минуту! Итак, к делу, сеньор Филипп. Надеюсь, ты настолько француз, что подаешь мне добрый совет в моем тяжелом положении. Я убежден, что нить к этому лабиринту в твоих руках. Помоги же мне из него выбраться!
— И я и мои советы к услугам вашего величества, — ответил де Комин, — но повторяю снова: когда это не идет вразрез с моим долгом по отношению к моему государю.
Это было почти буквальное повторение того, что он говорил раньше, но теперь эти слова были сказаны таким тоном, что проницательный Людовик, который, в первый раз услышав заявление де Комина, ясно понял, какой помехой будет для него верность этого царедворца герцогу Бургундскому, теперь сразу уловил в них новый смысл: он видел, что теперь его собеседник подчеркивает обещание дать полезный совет, а о долге упоминает только из приличия. Итак, король сел, пригласил де Комина сесть рядом и стал его слушать так, словно внимал оракулу. Де Комин говорил выразительно и тихо, тоном сдержанной искренности, медленно отчеканивая слова, точно для того, чтобы Людовик мог хорошенько взвесить их.
— Как это ни тяжело для вас, государь, — начал он, — но требования, представленные мною на усмотрение вашего величества, — самые мягкие из всех, которые предлагали и обсуждали в присутствии герцога на совете люди, враждебные вашему величеству. И мне, конечно, нет надобности напоминать вам, что наш герцог охотнее всего принимает самые решительные и самые жестокие советы, потому что любит быстрые, крутые меры и предпочитает их окольным путям.
— Как же, как же! — подтвердил король. — Я сам видел, как он однажды с опасностью для жизни переплывал реку, когда не дальше как в двухстах ярдах от него был мост.
— Вот видите, ваше величество! А тот, кто ставит на карту жизнь ради удовлетворения минутного каприза, не задумается пренебречь случаем увеличить свое, достояние, лишь бы сделать по-своему.
— Ты прав, — ответил король. — Глупцу внешние проявления власти всегда дороже самой власти. Карл Бургундский именно таков! Но, друг мой, какой же отсюда следует вывод?
— Вот какой, государь, — ответил бургундец. — Вашему величеству, вероятно, случалось видеть, как искусный рыбак ловит крупную рыбу и вытягивает ее на берег с помощью тонкого конского волоса, который непременно бы порвался, будь леска хоть вдесятеро толще, если бы рыбак вздумал сразу вытянуть ее, вместо того чтобы на время предоставить рыбе свободу биться и дергать ее во все стороны. Так и вы, государь, уступите герцогу в тех требованиях, которые он связывает с вопросами о чести и возмездии, и вам удастся отклонить требования, которые больше всего возмущают ваше величество, то есть именно те — я хочу быть откровенным до конца, — которые больше всего клонятся к ослаблению Франции. На первых порах он не вспомнит о них, а там, откладывая день за днем их обсуждение, ваше величество сможете от них уклониться.
— Я понимаю тебя, мой добрый Филипп, — сказал король, — но вернемся к делу. Итак, на какие же из лестных предложений герцога нельзя возражать, не вызывая его безрассудного гнева, и какими из них он больше всего дорожит?
— С вашего позволения, государь, всеми и каждыми, на которые вы станете возражать. Этого-то вашему величеству и следует избегать; выражаясь иносказательно, вы все время должны быть настороже, чтобы вовремя ослабить лесу, когда герцог начнет метаться в припадке бешенства. Это бешенство, наполовину уже утихшее, уляжется само собой, не встречая препятствий, и тогда вашему величеству будет легче с ним справиться.
— А все-таки, — задумчиво заметил Людовик, — должно же быть в требованиях моего кузена что-нибудь, чем он особенно дорожит. Если б я мог узнать, что именно, Филипп…
— Пустейшее из требований герцога может превратиться в самое важное, стоит только вашему величеству начать ему противоречить, — сказал де Комин.
— Одно могу сказать с уверенностью: не может быть и речи о соглашении, пока ваше величество не отступитесь от де ла Марка и от льежцев.
— Я уже сказал, что порву с ними, — ответил Людовик, — и лучшего они не заслуживают. Негодяи! Заварить кашу в такое время, когда это могло стоить мне жизни!
— Тот, кто подносит к пороху фитиль, должен ждать взрыва, — ответил де Комин. — Но герцог рассчитывает не только на ваше обещание отречься от них, государь: вы должны знать, что он потребует еще помощи вашего величества для усмирения мятежа и вашего присутствия при наказании виновных.
— Едва ли это будет совместимо с нашим достоинством, де Комин, — возразил король.
— Отказ будет еще менее совместим с вашей безопасностью, государь, — ответил де Комин. — Карл решил раз навсегда доказать фламандцам, что им нечего надеяться на поддержку Франции и что ничье вмешательство не спасет их от гнева и мести Бургундии, если они затеют новое восстание.
— Я выскажусь откровенно, сеньор Филипп, — сказал Людовик. — Не кажется ли тебе, что, если б нам удалось выиграть время, эти льежские бездельники сумели бы, пожалуй, и сами за себя постоять? Негодяи многочисленны и отважны
— может быть, им удалось бы отстоять свой город от герцога Бургундского?
— С помощью тысячи французских стрелков, обещанных им вашим величеством, быть может, и удалось бы, но…
— Обещанных мной? — воскликнул Людовик. — Это клевета! Как тебе не стыдно повторять ее, Филипп!
— Но без этой помощи, — продолжал де Комин, не обратив внимания на его слова, — а ваше величество в настоящую минуту едва ли сочтете удобным им помогать, — им вряд ли удастся отстоять город, в стенах которого еще не заделаны бреши, пробитые Карлом после Сен-Тронской битвы. Солдаты Брабанта, Эно и Бургундии, я полагаю, легко пройдут в них, человек по двадцать в ряд.
— Глупые ротозеи! — воскликнул король. — Не стоит и думать о них, если они сами не сумели о себе позаботиться. Продолжай, я не намерен из-за них затевать ссору!
— Боюсь, что следующее требование больнее заденет ваше величество, — сказал де Комин.
— А! Это, верно, опять об этом проклятом браке! — воскликнул король. — Я уже тебе сказал, что никогда не позволю герцогу Орлеанскому нарушить клятву, данную им моей дочери Жанне! Это значило бы лишить французского престола и меня, и мое потомство, потому что мой сын, болезненный ребенок, — это не более как увядающая почка, которая никогда не даст плода. Об этом браке я мечтал много дней, он мне грезился по ночам.
Нет, сеньор Филипп, я не могу от него отказаться! Бесчеловечно требовать, чтобы я собственными руками разрушил свой излюбленный политический план и счастье двух молодых людей, предназначенных друг для друга!