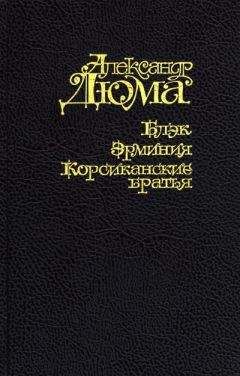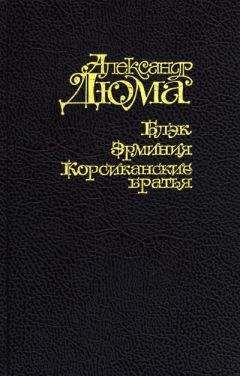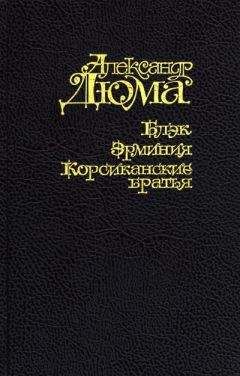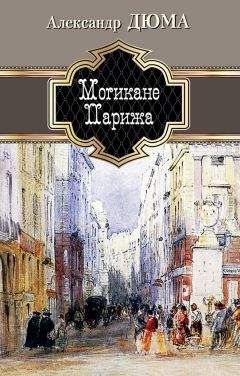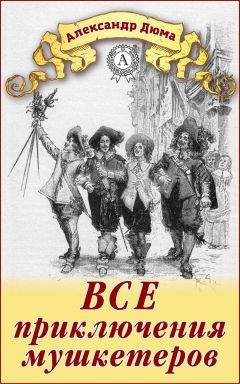Александр Дюма - Блэк. Эрминия. Корсиканские братья
Мне показалось, что я вошел в настоящий арсенал.
Вся мебель была сделана в пятнадцатом-шестнадцатом веках: резная кровать под балдахином, который поддерживали внушительные витые колонны, была задрапирована зеленой шелковой тканью, украшенной золотыми цветами, занавеси на окнах были из той же материи; стены были покрыты испанской кожей и везде, где только можно, были военные трофеи, старинные и современные.
Трудно было ошибиться в привязанностях того, кто жил в этой комнате: они были настолько воинственными, насколько мирными были привязанности его брата.
— Обратите внимание, — сказал он мне, проходя в умывальную комнату, — вы сейчас находитесь в трех столетиях: смотрите! А я сейчас переоденусь в костюм горца, ведь я говорил вам, что сразу после ужина мне нужно будет уйти.
— А где среди этих мечей те аркебузы и кинжалы, то знаменитое оружие, о котором вы говорили?
— Их там три: начнем по порядку. Поищите у изголовья моей кровати кинжал, висящий отдельно, с большой чашкой эфеса, головка которого образует печать.
— Я нашел его. И что?
— Это кинжал Сампьетро.
— Знаменитый Сампьетро, который убил Ванину?
— Не убил, а казнил!
— Мне кажется, это одно и то же.
— Во всем мире, может быть, да, но не на Корсике.
— А этот кинжал подлинный?
— Посмотрите, на нем есть герб Сампьетро, только там еще нет французской лилии, вы, наверное, знаете, что Сампьетро разрешили изображать этот цветок на своем гербе только после осады Перпиньяна.
— Нет, я не знал этих особенностей. И как этот кинжал стал вашей собственностью?
— О! Он в нашей семье уже триста лет. Его отдал Наполеону де Франчи сам Сампьетро.
— А вы знаете при каких обстоятельствах?
— Да. Сампьетро и мой предок попали в засаду генуэзцев и защищались, как львы. У Сампьетро упал с головы шлем, и генуэзский всадник уже хотел ударить его своей дубинкой, когда мой предок вонзил ему свой кинжал в самое уязвимое место. Всадник, почувствовав, что он ранен, пришпорил лошадь и скрылся, унося с собой кинжал Наполеона, который так глубоко вошел в рану, что он сам не мог его вытащить. И так как мой предок, по-видимому, дорожил этим кинжалом и сожалел, что потерял его, Сампьетро отдал ему свой. Наполеон при этом ничего не потерял, так как этот кинжал испанской выделки, как вы видите, и он пронзает две сложенные вместе пятифранковые монеты.
— Можно мне попытаться это сделать?
— Конечно.
Я положил две монеты по пять франков на паркет и с силой резко ударил по ним.
Люсьен меня не обманул.
Когда я поднял кинжал, обе монеты остались на его острие, проткнутые насквозь.
— Ну, ну, — сказал я, — это действительно кинжал Сампьетро. Единственное, что меня удивляет, это то, что, имея подобное оружие, он воспользовался какой-то веревкой, чтобы убить свою жену.
— У него не было больше такого оружия, — сказал мне Люсьен, — потому что он отдал его моему предку.
— Действительно.
— Сампьетро было более шестидесяти лет, когда он срочно вернулся из Константинополя в Экс, чтобы преподать миру важный урок того, что женщинам не следует вмешиваться в государственные дела.
Я склонился в знак согласия и повесил кинжал на место.
— А теперь, — сказал я Люсьену, который все еще одевался, — когда кинжал Сампьетро находится на своем гвозде, перейдем к следующему экспонату.
— Вы видите два портрета, которые висят рядом друг с другом?
— Да, Паоли и Наполеон.
— Так, хорошо, а рядом с портретом Паоли — шпага.
— Совершенно верно.
— Это его шпага.
— Шпага Паоли! Такая же подлинная, как кинжал Сампьетро?
— По крайней мере, как и он, она попала к моим предкам, но к женщине, а не к мужчине.
— К женщине из вашего рода?
— Да. Вы, наверное, слышали об этой женщине, которая во время войны за независимость приехала к башне Суллакаро в сопровождении молодого человека.
— Нет, расскажите мне эту историю.
— О, она короткая.
— Тем более.
— У нас уже нет времени разговаривать.
— Я слушаю.
— Ну, хорошо. Эта женщина и тот молодой человек приехали к башне Суллакаро, желая поговорить с Паоли. Но так как Паоли был занят и что-то писал, им не разрешили войти, и двое часовых их пытались остановить. Тем временем Паоли, который услышал шум, открыл дверь и спросил, что случилось.
— «Это я, — сказала женщина, — я хочу с тобой поговорить.
— И что ты мне пришла сказать?
— Я пришла тебе сказать, что у меня было два сына. Я узнала вчера, что первый был убит, защищая свою родину, и я проделала двадцать лье, чтобы привезти тебе второго».
— То, что вы рассказываете, похоже на сцену из жизни Спарты.
— Да, очень похоже.
— И какой была эта женщина?
— Она была моим предком. Паоли вытащил свою шпагу и отдал ей.
— Я вполне одобряю такую манеру просить прощение у женщины.
— Она была достойна и того, и другого, не правда ли?
— А теперь эта сабля?
— Именно она была у Бонапарта во время сражения при Пирамидах в Египте.
— И, без сомнения, она попала в вашу семью таким же образом, как кинжал и шпага?
— Точно. После сражения Бонапарт отдал приказ моему деду, офицеру гвардии, атаковать вместе с полсотней человек горстку мамелюков, которые все еще держались вокруг раненого предводителя. Мой дед повиновался: разбил мамелюков и привел их главаря Первому консулу. Но, когда он хотел вложить в ножны саблю, клинок ее оказался настолько изрублен дамасскими саблями мамелюков, что уже не входил в ножны. Мой дед далеко отшвырнул саблю и ножны, так как они стали ненужными. Это видел Бонапарт и отдал ему свою.
— Но, — сказал я. — На вашем месте я скорее предпочел бы иметь саблю моего деда, всю изрубленную, какой она была, чем саблю генерала аншефа, совершенно целую и невредимую, какой она сохранилась.
— Посмотрите напротив и вы ее там обнаружите. Первый консул ее подобрал, приказал сделать инкрустацию из бриллиантов на эфесе и переслал ее моей семье с надписью, которую вы можете прочитать на клинке.
Действительно, между двух окон, наполовину выдвинутый из ножен, куда он не мог больше войти, висел клинок, изрубленный и искривленный, с такой простой надписью:
«Сражение при Пирамидах 21 июля 1798».
В этот момент тот же слуга, который меня встречал и приходил объявить мне, что прибыл его молодой хозяин, вновь появился на пороге.
— Ваша Милость, — сказал он, обращаясь к Люсьену, — мадам де Франчи сообщает вам, что ужин подан.
— Очень хорошо, Гриффо, — ответил молодой человек, — скажите моей матери, что мы спускаемся.