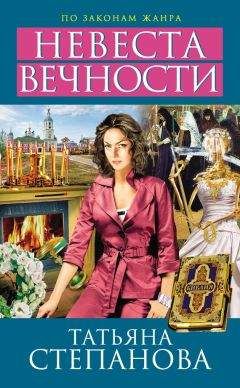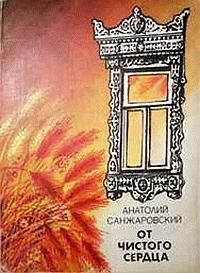Мэри Рено - Тезей
Поздней ночью на небе показался полумесяц и осветил кладбище. Из темноты возникли тополя и кипарисы, тонкие и неподвижные как копья стражников; и старинные курганы; и стелы на них — с кабанами, львами и схватками колесниц; и столбы с обветшавшими трофеями, склоненные к востоку…
Поленья в костре рухнули, вверх рванулись снопы золотистых искр и языки пламени… Похолодало — это жизнь отливала от нас, живых. Ослабевшие от росы, подползали духи — погреться у огня, вкусить от приношений… В такие моменты, когда свежая кровь придает им сил, они могут говорить с людьми… Я повернулся к двери в глубине кургана — в сполохе блеснуло большое бронзовое кольцо… Но внутри всё было так же тихо и неподвижно.
«Что бы он сказал? — думал я. — Как там, в полях Гадеса, где нет ни восхода, ни заката, ни смены времен года?.. И люди там не меняются, ведь перемены — это жизнь… Те, кто только тени прошедшей жизни, — они должны сохранить свое земное обличье, во что бы ни превратились они, пока ходили под солнцем. Надо ли богам судить нас после? Пожалуй, жить с самим собой и вечно помнить — это достаточно суровый приговор… О Зевс и Аполлон, пусть я со славой уйду когда-нибудь в то царство теней! И когда я буду там — дайте мне услышать мое имя, оставшееся в мире живых. Смерть не властна над нами, пока певцы поют о нас, а дети помнят…»
Я обошел вокруг кургана, разогнал стражников, пристроившихся выпивать за деревом… Отец не скажет, что я пренебрег обрядом, принимая его наследство. Потом снова выложил костер и пролил масла на него, и подумал: «Когда-нибудь я буду лежать здесь, а мой сын будет делать всё это для меня».
Наконец показалась утренняя звезда. Я крикнул, чтоб дали факел, и пошел вверх по длинному склону к Крепости, и снова вверх, через темный гулкий дом… И рухнул спать не раздеваясь: с восходом мне надо было быть на ногах, чтобы начать Игры по утренней прохладе.
Они прошли хорошо. Не обошлось, конечно, без споров — в Аттике иначе не бывает, — но я рассудил их так, что зрители одобрили мои решения; и проигравшие, чтоб не срамиться, тоже с ними согласились. Призы были такие, что удовлетворили бы хоть кого… Но самые лучшие я назначил за гонки колесниц — в честь Посейдона, Отца Коней. Первым призом был эллинский боевой конь, приученный к колеснице. Вторым — женщина… Она была самой молодой из служанок отца, эта синеглазая сучка, и когда он еще жив был — в лепешку расшибалась, чтоб забраться ко мне в постель. Зная, что я про нее знаю, — она была рада попасть к другому мужчине, которого ей легче будет дурачить, да еще покрасоваться по пути перед сотней воинов. Она была наряжена как царица, и меня превозносили за щедрость… Третий приз — баран и треножник.
Отец получил всё, что ему причиталось. Теперь заперли обитые бронзой двери и засыпали проход к ним… Его тень уже должна была пересечь Реку и присоединиться к воинству мертвых. Скоро курган оденется травой, на нем будут пастись козы…
Юноши, принимавшие участие в Играх, ушли с луга искупаться и одеться, их голоса были свободны и жизнерадостны… Старики собрались отдельно. Они не согрели кровь в состязаниях и еще ощущали холод смерти, потому были поначалу суровы и торжественны. Но вскоре и от них донесся веселый шум, как стрекотание кузнечиков в погожий осенний день, когда морозы, кажется, еще далеко.
Я пошел переодеться к пиру. Вечер был теплый, царское облачение давило тело и имело какой-то противный затхлый запах… Я подумал о Крите, где только старики и простолюдины закрывают свое тело, а принцы ходят почти такими же нагими, как боги. Чтобы не выглядеть слишком чужим, я надел эллинские короткие штаны из ярко-красной кожи, широкий пояс, усыпанный ляписом; но сверху — только царское ожерелье и надлокотные браслеты. Теперь я был наполовину царь, наполовину бычий прыгун — внешне, как и в душе. Так я чувствовал себя увереннее.
Молодежь разглядывала меня во все глаза. Раньше, занимаясь борьбой, я обрезал себе волосы на лбу по брови, чтоб нельзя было схватить меня за чуб, — они подхватили это (стрижка и по сей день называется «под Тезея»). Теперь, я видел, переймут и одежду… Но мое внимание было посвящено гостям: надо было разобраться, кого не хватает, подошло время сосчитать моих врагов. Оказалось, что все сильнейшие вожди были здесь — кроме одного, самого сильного. Я много слышал об этом человеке. Это было скверно.
На другое утро я пригласил их всех в Палату Совета. Впервые сидел я на троне Эрехтея; вдоль расписных стен, на скамьях, обитых узорчатыми коврами, расположились владыки Аттики… Я постарался забыть, что многие из них имели сыновей старше меня, и сразу перешел к делу. Минос мертв, его наследник Минотавр — тоже; на Крите смута: двадцать разных хозяев, а точнее — ни одного. Эта весть должна птицей облететь царства Ахейцев. «Если мы хотим быть хозяевами островов, а не вассалами какого-нибудь нового Миноса, — нам необходимо выйти в море».
Крит — страна золота, потому меня охотно поддержали. Один из них встал и сказал, что для победы над такой большой страной нужны союзники. Это было разумно, и у меня был ответ… Но у наружных дверей послышался шум, и мои гости заерзали. На их лицах был страх пополам с ожиданием, а некоторые обменялись потаенной улыбкой, как в предвкушении забавного зрелища.
Снаружи донесся звон снятого оружия — в зал вошел человек. Это его не было на пиру; он пришел с опозданием на совет.
Его никчемные извинения звучали оскорбительно, но я их выслушал до конца, изучая его. Никогда прежде я его не видел; он редко вылезал из своего логова на Кифероне, где охотился за путниками на Фиванской дороге. Я представлял его страхолюдным, но он оказался очень мил — этакий гладкий, упитанный пончик…
— Нам пришлось ждать тебя, Прокруст, — сказал я. — Но ты пришел из горной страны, и дороги у вас наверно ужасны…
Он улыбнулся. Я стал коротко излагать ему дело. Отец не трогал его двадцать лет, не рискуя ввязаться в войну с ним, — все присутствующие это знали. С тех пор как он вошел, никто на меня не смотрел и, наверно, никто меня не слушал; было ясно, что его они боятся больше, чем меня, — и от этого стало не по себе.
Я еще говорил, когда вдруг услышал визг из-под скамьи возле него. Мой пес Актис выскочил оттуда, подхромал ко мне, держа на весу переднюю лапу, и, дрожа, лег возле меня. Как это получилось, я не заметил, но стал гладить собаке уши — и тут заметил его ухмылочку. Меня как ударило: «О Зевс! Ведь он старается запугать меня!»
Все эти подхалимские рожи вокруг вогнали было меня в тоску, но теперь я был натянут как тетива. Чтоб меня так разозлили, а я бы остался сидеть — такого еще не случалось; однако на этот раз я не подал виду и ждал.