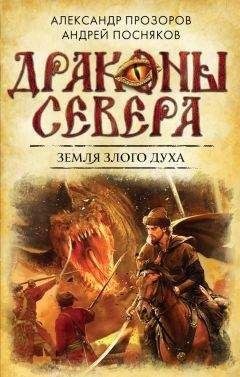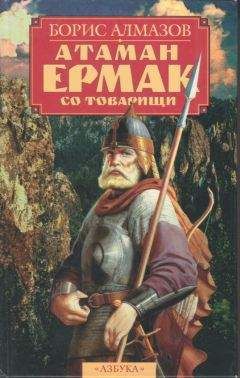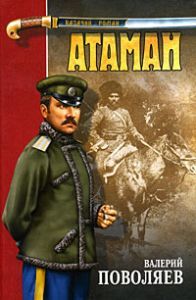Владимир Буртовой - Последний атаман Ермака
— Надо было вам, батюшка, просить господа, чтоб медведем родиться на белый свет, — засмеялась Марфа, сверкая ровными белыми зубами, — вот уж отоспались бы за долгую зимушку!
Старый промысловик крякнул за перегородкой, тут же решительно отказался от такой участи:
— Ну уж не-ет, доченька! Не раз довелось видеть, как бедный зверь по весне горе мыкает да ревет, не могши сразу по великой нужде в кусты сходить. Лучше я буду мало спать, да легко бегать до ветру, как говорится!
— Аминь! — со смехом подытожил этот шутливый разговор Матвей. — Надо собрать все свои огневые припасы, порох да пули. А после обеда, малость вздремнув, все прочие пожитки в приседельные сумки да узлы свяжем…
После обеда Марфа убрала посуду, подсела на край лавки у глухой стены, где блаженно вытянул ноги и отдыхал Матвей, поглядела на маленькое слюдяное окошко, сквозь которое угадывалось солнце, уходящее на западную половину неба. Нежно поглаживая правой рукой мягкие темно-русые волосы мужа, она заглядывала ему в красиво очерченные ресницами и бровями серые глаза, и после недолгого молчания спросила то, о чем давно уже хотелось знать:
— Матюша, ты никогда не говорил о себе, о своих родичах. Неужто у тебя никого не осталось живых? Ни братьев, ни сестричек? А если они живы, то где поселились? И давно ли ты не виделся с ними?
Матвей от неожиданности такого спроса открыл смеженные веки, медленно приподнял голову с соломенной подушки, с удивлением посмотрел на супружницу.
— А к чему тебе это, Марфуша? — он левой рукой достал длинную русую косу жены, легонько потянул к себе, приближая ее лицо к своему. — У казаков не принято друг дружке сказывать, кто ты, из каких краев да от какого боярина сошел не в Юрьев день. Случись быть какому сыску от Разбойного приказа, так чтобы не возвратили к прежнему боярину под батоги за побег.
Марфа тихонько засмеялась, ткнула пальцем в лоб Матвею, съязвила, дразня мужа:
— Ах вот какую отговорку ты придумал? Решил, что я, живя в вашем стане почти год, исполняла волю думных дьяков Разбойного приказа, выспрашивая, кто да откуда бежал в казаки? Да за такую обиду тебя всю будущую седмицу кормить не стану! Уразумел, атаман?
Матвей рассмеялся, поцеловал Марфу в теплую смуглую щеку, тихим голосом повинился, чтобы не потревожить сон Наума Коваля:
— Прости, прости, Марфуша! Должно слышала, как нам Еремей твердил, что и праведник семижды в день согрешает! А муженек твой не такой уж праведник, каюсь, грешен! — И добавил серьезно. — Ты права, Марфуша, доведись какой беде случиться, не спорь, не спорь ради Христа, ты знаешь, что казак не только под богом ходит, но и под пулей да саблей татарской или ногайской, — торопливо остановил он Марфу при попытке прервать такое черное предсказание. — Так вот, думаю я, что должна ты знать, кто воистину я на земле, где предки мои упокоились, да в каком краю моя послеродовая пуповина закопана…
Марфа покорно прилегла на грудь мужа поверх жесткого домотканого покрывала, вздохнула.
— Сын подрастет, знать захочет, кто он родом, а я ему и расскажу, каким знатным атаманом был его родитель, да как служил Руси вместе с храбрыми казаками…
— Расскажешь, ежели к тому времени господь призовет меня к святому престолу… Так вот, милая Марфуша, — начал свою первую во казачестве исповедь Матвей, — родом я из заволжской Руси, зовомой в народе Мещерой, отчего и прозвище такое ко мне прилепилось — Мещеряк. Село наше неподалеку от озера Светлый Яр, верстах в трех от озера и было наше село, владение боярина Федора Ивановича Хворостенина.
Марфа приподняла голову, подбородком оперлась о ладонь и ткнулась лбом в густую бороду мужа.
— Я что-то слышал об этом озере… Кто-то давно рассказывал мне сказку о нем, должно, дед Яков, который зимними вечерами собирал нас, малышей, у теплой печки и чинил наши валенки.
— А рассказывал он вам дивную быль или небыль, то трудно теперь знать достоверно, о граде Китеже. Сказывали будто бы древние старики, что во времена нашествия хана Батыя, повоевав большие города Владимир да Суздаль, хан Батый повел свою рать на Китеж, о котором ходила молва как о граде богатом, с белокаменными стенами, с церквями, у которых купола крыты чистым золотом, с каменными боярскими теремами и с посадами. Повелел хан Батый град Китеж на копье взять, терема да церкви пограбить, люд посадский арканами ловить и в неволю гнать, а град Китеж ярому огню предать, чтоб о нем даже память бурьяном в людских головах заросла… Но едва татарская рать приблизилась к озеру Светлый Яр, как ослепил господь недругов, исчез из вида великий Китеж, укрыло его светлое озеро. Сказывают старики — много дней бессчетное войско Батыя искало тот город, да только по ночам оглашались окрестные леса глухим звоном затопленных водой колоколов.
— Да-а, Матюша, нечто такое и дед Яков нам сказывал, — прошептала Марфа, потихоньку перебирая пальцами пряди матвеевой коротко стриженной бороды. — И что же? Ты, знать, с того озера? Видел в нем затопленный город? Истинно был такой град святой, аль это дедовские сказки?
— Я пребывал в отроческом возрасте, когда узнал о граде Китеже. В ту пору случилась большая беда. Родитель мой Василий да матушка Ксения в июльскую пору на сенокосе были. Нежданно налетела гроза с градом. Спасаясь, они метнулись под старый дуб над ручьем, обнялись крепко… Так их и нашли к вечеру деревенские мужики под дымящимся расщепленным деревом. Сказывали, что один раз только и громыхнул гром с молнией, да та молния и ударила в дуб… Управляющий имением повелел мне, сироте, боярское стадо пасти близ Светлого озера. Не первый раз я был на его берегу, а тут будто к вечерней молитве легкий звон по поляне пошел, где мои овечки паслись. «Неужто, — подумал я, а душа трепетом зашлась, — неужто в канун праздника Ивана Купалы град Китеж объявится?» — Бросил кнут в траву и к озеру на четвереньках пополз, благо до него было саженей пятьдесят. И с невысокого обрыва глянул в озеро, а там золотые сполохи под водой, и от легкой ряби будто это церкви божии и людишки маленькие-маленькие у церквей туда-сюда бегают… Взмолился я, лбом о землю стучу, крестное знамение творю, а сам словно в беспамятстве каком. Тут на солнце облако темное наползло, и золотые купола в озере пропали, а вместо колокольного звона по полю со своими овечьими воплями носится мое стадо. Пока я у озера на четвереньках стоял, волки трех овец зарезали и уволокли в лес… За чудесное видение града Китежа мне досталась крепкая порка плетьми: так повелел князь Федор Хворостенин. Он и отдал меня в рынды, то бишь, в оруженосцы своему брату Дмитрию Ивановичу, славному воеводе, с которым на двадцатом году жизни бывал я в великом сражении с татарами крымского хана Девлет-Гирея летом семьдесят второго года под Молодями. Там первый раз увидел лихих казаков, их было в сражении с крымцами до четырех тысяч. Да простит меня господь, но когда казаки погнались за бегущими татарами и ногаями к Оке, я самолично ухватил у князя запасного коня, с копьем и саблей пристал к казакам, сколол у брода через Оку первого татарина, а к князю Федору не вернулся, не простил ему позорных плетей, после которых дён пять был в полном беспамятстве. После побития Девлет-Гирея пристал я к кошу Ермака Тимофеевича, с ним был на сражениях с литвой да поляками на западном рубеже, а потом, когда война кончилась и Боярская дума отказалась содержать казаков на жалованье, ушли мы на Волгу, здесь прознали, что волей царя супротив нас идет сильная судовая рать с пушками, порешили уйти во владения Строгановых. А Строгановы решили нашими саблями погромить хана Кучума, который беспрестанно делал набеги на русские поселения близ Каменного Пояса. Ну, а что было в Сибири — то сама хорошо знаешь.