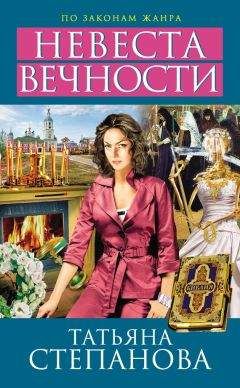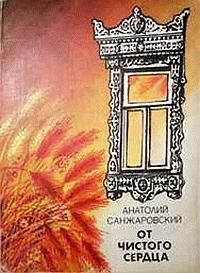Мэри Рено - Тезей
Мы все показывали друг другу этот огонек и воздымали руки в благодарность богам… Но надо было и поспать — все улеглись. Ночь была спокойная, только шелест волн нарушал тишину, да тонко звенели кузнечики… И тут я впервые почувствовал, что Крит наконец сваливается с меня. Я снова был в Аттике — ездил по равнинам и горам этой страны, разговаривал с ее людьми, сражался в гуще ее воинов, лазал по ее скалам… Я лежал, глядя на усыпанное звездами небо, и думал о возвращении, о том, что предстоит.
Думал, что необходимо собрать флот, чтобы навести порядок на Крите… И поскорее, не то Крит станет почище Истма… Пытался представить себе, сколько кораблей успел построить отец, если брат Гелики донес до него мое послание… Если другие эллинские цари не решались принять участие в походе против Крита, пока Минос был владыкой островов, — нельзя было их в этом упрекать всерьез. И я думал, что бы я сам стал делать на его месте. «Конечно, построил бы собственные корабли и ждал бы с богами удачного дня. И послал бы в Трезену — там бы наверняка помогли… Но я молод, а отец устал от долгих войн своих и смут; они сделали его осторожным…» — так думал я. И еще думал об Аттике, — о вечно враждующих кланах и деревнях ее, — и гадал, сумею ли когда-нибудь уговорить его попробовать мой план насчет трех сословий…
Потом поднялся со своего ложа и встал у воды, глядя на север. Огонь еще горел, — даже ярче чем прежде, наверно часовой как раз подкармливал его, — и тут я понял, что это маяк моего отца! Быть может, он горел там каждую ночь, с тех пор как меня увезли, а может, до них уже дошли какие-то слухи с Крита?.. Я представил себе, как он стоит на крепости и смотрит на это же самое пламя, — и у меня заныло в груди; как в то утро, когда он подарил мне колесницу.
Я думал о нашем прощании, когда меня увозили на Крит… И будто снова рука его легла мне на плечо, и в ушах прозвучали его прощальные слова: «Когда придет тот день — пусть парус твоего корабля будет белым. Это послужит мне вестью от бога».
«Что он имел в виду? Он рано постарел, он имел в виду больше, чем мог сказать перед народом… Весть, сказал он, весть от бога. Он, значит, собирался принять за божий знак мой белый парус? Но раз так, — если я выкрашу парус, — мне уже не увидеть его в живых!..» — так я подумал.
Мне стало страшно, сердце колотилось… Не было уверенности в намерениях его; не был уверен, что он их изменил… Ведь он — уставший человек; как угадать, что у него на уме?..
С травы на берегу доносился храп моих спящих товарищей, кто-то вздохнул, шептались двое любовников… Эх, мне бы их бессонницу!.. А передо мной был трудный выбор, и никто не мог мне помочь.
Я сдавил себе ладонями глаза и держал так, пока не вспыхнули под веками красные и зеленые цветы. Потом снова посмотрел туда и опять увидел свет сигнального костра — и меня осенила мысль. Сбросил одежду, вошел в холодное весеннее море, оттолкнулся от берега… «Отец Посейдон! Я был в руке твоей, и ты всегда направлял меня верно. Пошли же знак мне, поменять парус или оставить? Если ты будешь молчать — сделаю, как он просил, и выкрашу парус белым».
Небо было ясное, но тихий ветерок рябил воду. Когда я выплыл из-за тени берега — волны стали покачивать меня вверх-вниз, а иногда небольшой гребень и перехлестывал через меня… Я повернулся на спину, — полежать на воде, — и в этот миг накатила волна побольше остальных и накрыла меня с головой. От неожиданности я захлебнулся, начал барахтаться — и тонуть; море сомкнулось надо мной… И тогда я четко услышал в ушах божий знак.
Я прекратил борьбу — и вода вытолкнула меня на поверхность. Поплыл назад к земле, на сердце было спокойно: я переложил выбор на бога, и он ясно ответил, что делать, — сомнений больше не было, он принял на себя эту тяжесть.
Так я думал тогда, так я и теперь говорю в сердце своем, когда в великие дни жертвоприношений стою перед богами на Высокой Крепости — священной твердыне Эрехтея, — стою и приношу им жертвы от лица народа моего. Великий Отец Коней, что приходил к зачатию моему, Сотрясатель Земли, который поддерживал меня всегда и сохранил народ мой даже в ужаснейшем гневе своем, — он никогда не толкнул бы меня во зло. Я представлял себе, что отец немного погорюет, — но тем радостнее будет неожиданная встреча… Откуда я мог знать, что он так тяжко обвинит себя? Что даже не дождется, пока корабль зайдет в порт, чтобы убедиться, правду ли сказал тот парус?
А может быть, дело и не в том? В обычной человеческой скорби он, наверно, ушел бы, как все уходят: упал бы на меч или принял бы крепкого мака, что уносит жизнь во сне… Разве нет?.. А он ведь прыгнул с того самого балкона над скалой, с которого я однажды оттаскивал его, с самого края. Наверно, бог на самом деле послал ему знак, такой же громкий и ясный, как и мне: ведь мы оба были в руке Посейдона, это ему предстояло выбирать…
Человек, рожденный женщиной, не в силах избежать своей судьбы. И потому лучше не вопрошать Бессмертных и не растрачивать попусту сердце свое в печали, когда они скажут слово свое… Положен предел нашему знанию; и мудрость в том, чтобы не пытаться проникнуть за него. Люди — всего только люди.
Книга вторая
БЫК ИЗ МОРЯ
1
МАРАФОН
1
Дельфины так и прыгали вокруг, когда я — вместе с товарищами по арене — входил под парусом в Пирей. Наши одежды и волосы еще пахли гарью спаленного Лабиринта.
Я спрыгнул на берег, набрал полные горсти родной земли — она прилипла к ладоням, будто ласкала меня… И лишь потом заметил людей вокруг; они не приветствовали нас, а глазели издали и звали друг друга посмотреть на чужеземцев-критян.
Оглядел своих ребят — и понял, как выгляжу я сам, бычий плясун. Гладко выбритый; тонкий как хлыст от непрерывной тренировки; шелковая юбочка, вышитая павлиньими хвостами, стянута в талии широким золоченым поясом; веки до сих пор темны от краски — ничего эллинского во мне, кроме льняных волос. Ожерелья мои и браслеты — не царские драгоценности, а дорогие безделушки Бычьего Двора…
Арена въедалась в душу накрепко. Нога моя уже ступила на землю Аттики — а я всё еще был Тезей-афинянин, из Журавлей, первый среди бычьих прыгунов. Они там рисовали меня на стенах Лабиринта и вырезали из слоновой кости; украшали моими изображениями золотые браслеты; поэты клялись, что мы с ними переживем века в балладах, сочиненных в мою честь… Я всё еще гордился этим — но пора было снова становиться сыном своего отца.
Вокруг нас поднялся шум: толпа разглядела наконец, кто мы такие. Люди роились около нас, передавая новость к Афинам и к Скале; таращили глаза на царского сына, разряженного как фигляр… Женщины плакали от жалости, глядя на шрамы — следы скользящих ударов рогом… Такие шрамы были на каждом из нас; и люди думали, что это от плетей. По лицам моих ребят я видел, что они слегка обескуражены: на Крите каждый знал, что эти шрамы — наша гордость, знаки отточенного искусства…