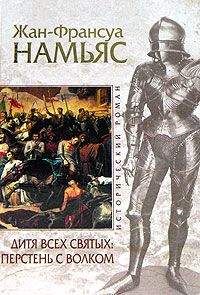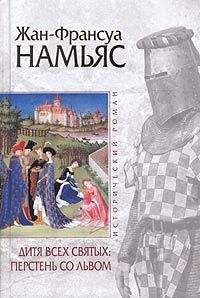Жан-Франсуа Намьяс - Дитя Всех cвятых. Цикламор
– Нужна также надежда. Ведь вам есть на что надеяться. Сама я надеюсь вернуться в Париж. Там я и хочу жить.
– Как странно! А я просил Бога, чтобы он мне позволил умереть там.
Сабина улыбнулась – такой улыбкой, что, даже несмотря на ее вдовий наряд, необоримо хотелось улыбнуться в ответ.
– Ну что ж, монсеньор, я уверена, что Бог прислушается к нашим просьбам. Мы оба вернемся туда – я чтобы жить, вы чтобы умереть… И впредь уже не разлучимся!
***Как раз в Париже находился в это время Адам де Сомбреном. Подобранный солдатами англо-бургундской армии, он умирающим был доставлен в больницу Отель-Дье.
С тех пор он так и не приходил в сознание. Он не умер, но его состояние мало отличалось от настоящей смерти. Хирурги зашили раны на его лице, но Адам все равно остался обезображенным. Сами по себе рубцы не были слишком уродливы, однако правый глаз и правая половина рта оказались сильно оттянуты книзу, что придавало лицу постоянное выражение несказанной муки.
Получив скорбное известие, Лилит немедленно приехала из Сомбренома вместе с маленьким Филиппом. Заботы о сеньории она доверила Полыхаю. Разумеется, она поселилась в доме Вивре, которым Адам завладел во время их последнего пребывания в Париже. Дом находился прямо напротив больницы, с другой стороны паперти.
Ради Адама – на тот случай, если бы он пришел в сознание, – она облачилась в свой самый красивый наряд «дамы слез» с гербом на красном камзоле.
В свои тридцать пять лет Лилит была красива как никогда. Она была блистательна. Никто бы не мог подумать, что она всего на несколько месяцев моложе Адама.
С нею находился тот, кого она называла своим сыном и с кем ни за что не захотела разлучиться, – Филипп де Сомбреном. Он не был похож на свою приемную мать, и это наименьшее, что можно сказать.
Одиннадцатилетний мальчишка выглядел удивительно смышленым и казался старше своих лет. Он не был красив, но привлекал к себе внимание и вызывал безотчетную симпатию. Очень смуглый и черноволосый, Филипп обладал необычайно подвижным лицом с резко очерченными чертами, в котором, несмотря на явный ум, проглядывало что-то от зверька.
Мальчик был, как всегда, наряден – в ослепительно белом камзольчике. И как всегда, неизбывно печален.
Лилит оставила его одного дома и побежала в лечебницу Отель-Дье напротив. Как человек благородного звания, Адам был помещен в маленькую отдельную палату, а не вместе с прочими больными, теснившимися в общем зале по двое, по трое на одной лежанке.
Монахиня, проводившая даму де Сомбреном к изголовью мужа, деликатно предупредила о внешнем виде раненого, что не помешало женщине вскрикнуть, когда она увидела своего возлюбленного. Тягостно было смотреть на страдальческое выражение, уже не сходившее с его лица.
Насколько могла судить Лилит, состояние Адама было крайне тяжелым. Казалось, он находится в глубоком оцепенении, похожем на глубокий сон. Порой метался, открывал глаза, но, похоже, ничего не видел.
Она склонилась над ним и поцеловала в скорбно искривленные губы.
– Адам, это я, Лилит. Очнись.
Он никак не отозвался.
– Я Лилит, темная Ева, истинная супруга Адама… Вспомни: Эден, наша ночь в часовне… Турнир слез, Адам…
Она сняла герб с груди и поднесла к самому его лицу.
– Смотри! Это ты завоевал его для меня. Не помнишь? А трубадур? Помнишь песню трубадура?
И срывающимся от волнения голосом стала напевать:
– Прекрасному богу любви воздаю благодарность, Хочу я ему принести свой торжественный дар…
На сей раз, Адам приподнял голову, широко открыл неподвижные глаза, и некое слово слетело с его губ. Это прозвучало словно призыв, мольба:
– Отец…
Лилит вскочила с постели.
– Что ты сказал? О ком ты?.. Я Лилит, твоя жена!
Раненый опять уронил голову и закрыл глаза, но продолжал метаться. Издал череду бессмысленных звуков, потом произнес отчетливо:
– Вивре… Франсуа…
Лилит закусила губу. На нее словно дохнуло холодом.
– Мужайтесь, дочь моя…
Она быстро обернулась. Какой-то монах приблизился к ложу Адама. У него были седые волосы, глаза светились большой добротой.
– Я священник приюта Отель-Дье. Ничего не могу вам сказать о здоровье вашего мужа, но заверяю в его вечном спасении. Он охотно причастился и часто упоминает своего отца. Он не в сознании, так что не может исповедаться, но у него доброе сердце, и Господу нашему это ведомо. Если бы он скончался сейчас, то направился бы прямо в рай.
Лилит разрыдалась и выбежала вон.
Она приходила каждый день, и с каждым днем все больше возрастали ее боль и тревога. Она говорила с Адамом, но казалось, что ее голос ему неприятен. Он морщился, словно от боли, и успокаивался, только произнося имя своего отца. Из-за этой летаргии случилось то, что, как она надеялась, не должно было случиться никогда: Адам, как это с ним уже произошло однажды, вновь поддался сомнениям. В самой темной глубине своего существа он отвергал навязанную ему роль кровавого чудовища, поборника Зла. И страдал оттого, что не любим человеком, даровавшим ему жизнь. В глубине, в самой глубине души Адам оставался одним из Вивре!
Несмотря ни на что, Лилит все же надеялась, что он опять станет прежним, как только придет в себя. Но улучшения все не наступало, а в День всех святых случилась катастрофа. Когда дама де Сомбреном явилась в Отель-Дье, к ней поспешил священник.
– Вашему мужу лучше, дочь моя. В первый раз он охотно поел. Я ему сказал, что сегодня День всех святых. Причина наверняка в этом.
Для Лилит это прозвучало словно удар грома… Адам поел потому, что сегодня День всех святых! В то время как всю свою жизнь он строго постился в этот праздник! Она поняла, что должна действовать немедленно.
– Я забираю его домой! Мы уходим.
– Дочь моя, в своем ли вы уме? Лекари говорят, что он может умереть, если его потревожить.
– Я его забираю…
Предупрежденные священником врачи старались отговорить ретивую супругу. Но напрасно. Она закинула бессильную руку Адама себе на плечо и попыталась поднять тяжелое тело с постели. И тогда они смирились и помогли ей донести его до дома Вивре, на другую сторону паперти.
Лилит знала, что они, конечно, правы, Адама это действительно могло убить, но сознательно пошла на риск. Ведь если бы она ничего не попыталась предпринять, все погибло бы в любом случае!
Она устроила мужа на первом этаже; о том, чтобы поднять больного наверх, и речи быть не могло. Поскольку помещение пустовало, она велела перенести сверху две кровати и оставила Филиппа, с которым прежде делила комнату, в одиночестве.
Адам выдержал это насильственное переселение, по-прежнему оставаясь без сознания. Казалось, он впал в еще более глубокую летаргию.