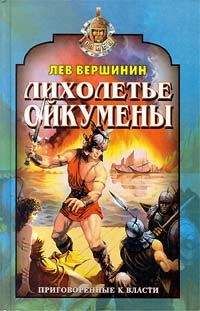Лев Вершинин - Обреченные сражаться. Лихолетье Ойкумены
Пустые, прозрачно-синие глаза стоящего рядом мужчины, облаченного в шитый золотом пурпурный гимантий[16], быстро-быстро замигали, а на круглом добром лице с вяло отвисшей губой и почти незаметными белесыми бровками выразилось полнейшее недоумение.
Царь Македонии Арридей-Филипп не впервые приезжает в это скучное место близ старой столицы Македонии, и каждый раз, когда он здесь, ему велят поклониться батюшке. Но разве батюшка живет здесь, в этом неудобном домике с колоннами? Арридея не проведешь! Он-то знает: батюшка ушел далеко-далеко, даже дальше, чем Вавилон, и никогда уже не вернется. Арридей умный! Он знает: если бы батюшка и вправду жил в этом белом домике, он бы обязательно вышел поздороваться с сыном и, конечно же, дал бы ему вкусную лепешку, как это было когда-то… давно… Арридей не помнит точно, когда…
«И все-таки он очень похож на Филиппа, – стараясь попрочнее держаться на непослушных, подгибающихся ногах, подумал Антипатр, наместник Македонии, Старейший из вождей. – Если бы не эти пустые глаза, не слюна на подбородке, можно было бы подумать, что это сам Филипп, только молодой…»
Ноги все-таки вели себя подло.
Антипатр покачнулся, и тотчас на помощь кинулись двое: Кассандр, сынишка, и доверенный раб, почти ровесник хозяина, однако вполне сохранивший силы. Но раньше всех успел царь: он хоть и стоял несколько впереди, но почувствовал что-то неладное и обернулся, подставляя крепкие руки. И в это мгновение лицо его не было глуповатым.
– Благодарю тебя, великий царь, – улыбнулся Антипатр, утверждаясь на ногах при поддержке сильных и ласковых рук базилевса.
Старик не был удивлен, он был тронут до глубины души.
Арридей – хороший мальчик, не будь он дурачком, из него получился бы прекрасный царь, настоящий; в нем действительно есть много от покойника-отца, не то что в Гаденыше: тот был истинным отродьем Большой Гадины, своей маменьки, ставшей проклятием Македонии и дома Аргеадов…
Тень набежала на морщинистое лицо, и тяжкий вздох вырвался из хрипло клокочущего горла.
Ведь говорили же Филиппу – и он, Антипатр, и Парменион, и многие другие, кому нельзя было не верить: не бери в дом эту молосскую ведьму, она тебе не пара, ничего хорошего из этого не выйдет. Бывает такое: с первого же взгляда на человека видишь – Гадина, и все дальнейшие наблюдения лишь подтверждают первое предчувствие.
Куда там! Обычно прислушивающийся к советам друзей Филипп порой бывал упрямее осла, вот и в тот раз уперся рогом: «Плевать! Очень хочется!» – и женился-таки на этой девке из Эпира! Да – красавица! Но с глазами кровососущей ведьмы и неприятно сварливым голосом!
Женился. И что же?
Много ли счастья принесла она в дом Аргеадов?
Зеленоглазая ведьма шипела и наушничала, науськивала Филиппа на старых друзей, на побратимов, даже на Антипатра с Парменионом; пока царь не остыл к ее излишне бурным ласкам, ночная кукушка куковала, разжигая в Пелльском дворце ненависть и подозрения, когда же Филипп опомнился наконец, ужаснулся и стал избегать ее, она принялась за сына, подначивая его против родного отца, – и преуспела в этом…
Слава Богам, что ведьмы нет в Македонии.
Слишком много зла принесла она родной стране Антипатра.
Да и сынок ее, проклятый Гаденыш, – тоже…
– Не утруждай себя сверх меры, великий царь, – отечески промолвил Антипатр, высвобождаясь из заботливых рук Арридея-Филиппа. – Твой слуга уже крепко стоит на ногах…
Сказал искренне, без всякой задней мысли, но тут же и усмехнулся невольной двусмысленности прозвучавшего.
Да, он крепко стоит на ногах!
Вот – простирается вокруг, сколько хватает взгляда, родная македонская земля, и он, Антипатр, бесспорный повелитель ее, хотя и невенчанный; но он же не Аргеад, чтобы требовать себе диадему…
Каждый год в один и тот же день, день гибели царя и побратима своего, хромого Филиппа, навещает наместник Македонии место последнего упокоения того, с кем когда-то вместе мечтали о величии Родины.
Как ясно было все в те незабвенные дни, каким безоблачным казалось будущее, и сколь невероятно далека была старость, в которую даже не верилось…
Все казалось простым и достижимым: сперва отнять у фракийцев Пангейские рудники, разжиться серебришком, перевооружить войско, обучив сражаться в новом, придуманном стариной Парменионом порядке, затем – прижать эллинов, сперва на окраинах, затем – в проливах, перерезав снабжение Эллады боспорским хлебом, потом всерьез разобраться с Элладой, окончательно погрязшей в никому не нужных междоусобиях, и наконец – отправиться в Азию, где у разучившихся воевать персов скопилось неприлично много для слабых золота…
И обогатить Македонию. Сделать ее первой из всех держав Ойкумены, счастливой, всеми уважаемой и процветающей…
Боги, боги! Ведь все же, все выходило как по писаному.
Создали фалангу, примучили долопов и паравеев[17], поставили на колени горских князьков, расширили рубежи… и Эллада, слишком поздно сообразившая, к чему идет дело, опомнилась только тогда, когда при Херонее македонский воин истоптал в пыль и славу греков, и надменность их, и знамена, уложив на кровавую траву все эти Священные Отряды, Дружины Неодолимых и всю прочую бронированную шелуху, которой гордились эллины.
Если бы не молосская ведьма со своим ублюдком!
Антипатр сморгнул, и крупная старческая слеза, не удержавшись на реснице, прокатилась по седой бороде.
Никто уже не докажет, но он уверен, он знает наверняка: убийство Филиппа подстроила именно она, и Гаденыш, конечно же, не остался в стороне, он всегда и во всем был заодно с маменькой! Были же свидетели! Они, правда, очень быстро исчезли, но друзья убитого успели расспросить их и узнать многое. Поднять бы ведьму на дыбу и попытать: о чем это она накануне убийства говорила с подлым Павсанием? Кто послал к месту преступления конюха с фессалийским жеребцом? Почему, когда стало ясно, что убийце не добраться до коня, Гаденыш и его дружок, Пердикка, запыряли уже пойманного Павсания кинжалами вместо того, чтобы сохранить живым для допроса?..
Для Антипатра ответ несомненен.
И если он и жалеет о чем нынче, накануне ухода в тот мир, где ждут его и Филипп, и Парменион, то лишь о промедлении: не присягать Гаденышу следовало тогда, опасаясь срыва похода в Азию, а брать его под арест, пусть даже это и привело бы к междоусобной резне.
Не посмели.
Слишком уж решительно были настроены молодые да ранние, все эти Пердикки, Птолемеи, Антигоны! Они скалили зубы в лицо взрослым, которых считали стариками, заедающими их молодость, и готовы были на все. Они думали о себе, о своей славе! О должностях и богатстве! И совсем не думали о Родине!..