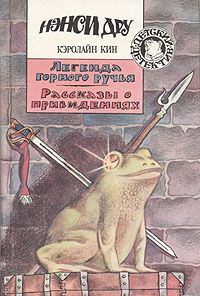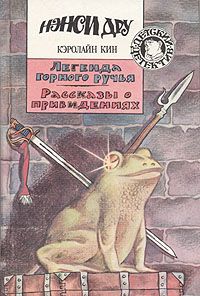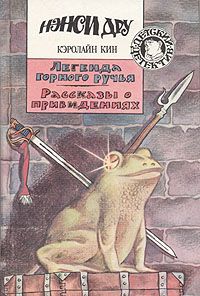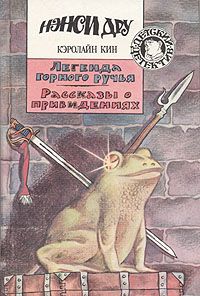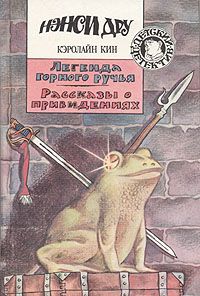Николай Зарубин - Надсада
— И я радый вас видеть, мои милые женщины, — отвечал Данила: на лице его играла добрая снисходительная улыбка, какой Вовке никогда не приходилось наблюдать, и эти неожиданные перемены в дядькином поведении поразили его до такой степени, что он стоял в буквальном смысле с открытым ртом.
Данила развязывал принесенные из саней мешки и вынимал куски сохатины, еще какого-то мяса, несколько кусков свиного сала, лагушок дикого меда, пакет конфет, пакет же пряников, а напоследок — два свертка: один, что побольше, подал Людмиле, другой — Клавдии.
В свертках оказалось по цветастому платку, по кулечку цветных ниток, по гребешку, по заколке для волос, по недорогому браслетику из зеленого цвета камушков. Людмиле достались, кроме названного женского добра, маленькие туфельки и яркая кофта. Туфельки Людмила стала тут же примерять, и они, к удовольствию наблюдавшего за женщинами Данилы, оказались ей впору. Женщина тут же прошлась по комнате, притопнула и, к Вовкиному удивлению, пропела:
С милым ходим кругом, кругом,
Нет красивей парочки.
Мне на зависть всем подругам
Дарит он подарочки…
— Вот-вот, Людке — подарочки, а мне — фигу с маслом, — обиженно проговорила Клавдия, о которой на мгновение забыли.
— Не горюй, кареглазая, — приобнял ее за плечи Данила, — и тебе следующий раз привезу что-нибудь на зависть Людке.
— Ну-ну, посмотрим…
Женщины принялись за мясо, разделав его на куски. Клавдия раскатывала по столу тесто, Людмила рубила сечкой мясо в небольшом корытце. Данила с Вовкой, от нечего делать, на лавке около печки перекидывались в дурачка.
— Слышь, дядя, — спрашивал прерывающимся шепотом племянник. — Кто они такие, почему одни живут?
— Тут, племяш, своя история… — так же полушепотом отвечал Данила. — У Людмилы мужа и сына придавило перевернувшейся телегой с сеном. У Клавдии парня забрали в армию, и погиб парень-то, а другого она не пожелала. Так и живут вдвоем, перемогая свою судьбину.
И добавил:
— Женщины они хоть и гулящие, но добрые, зла от них нету. А в опчем, не думай об этом. В жизни еще не то быват.
Часа через полтора сели за стол. Проголодавшийся Вовка с нетерпением глядел на кастрюлю с пельменями, что поставлена была в самый центр стола, вкруг нее — тарелки с нарезанным салом, грибками, огурчиками, отдельно лежали куски черного хлеба. Последней была поставлена четверть с самогоном.
Рюмки наполнил Данила и со словами «вздрогнем, хозяюшки» — залпом опрокинул свою. Потянулся за огурцом, подмигнув племяннику, мол, не робей, давай делай, как я.
Пил Вовка впервые в жизни. Двух рюмок оказалось достаточно, чтобы почувствовать себя вровень с дядькой, и он начал с жаром говорить что-то сидящей рядом Клавдии.
Тут уж Данила подмигивал Людмиле, кивая на разошедшегося племяша, и скоро та оказалась у него на коленках, заливаясь неестественным смехом.
И странное дело, не почувствовал Вовка ни волнения, ни удивления, будто выполнил какую-то повседневную работу — не совсем чистую, но сладкую, а чуть забрезжил рассвет, потихоньку поднялся, оделся, вышел во двор, где еще с вечера заприметил кучу сваленных как попало чурок. Хмыкнул, попробовал пальцем зазубренное лезвие топора, прикинул, сколько времени потребуется для того, чтобы переколоть те чурки, поставил первую на круглую опору и с силой опустил топор в сырую мякоть колец дерева.
Чурки разлетались на поленья, а он все думал и думал. Надо было что-то решить, вслушаться в беспокоившие его мысли. Надо было разобраться в себе, понять, что он хочет и к чему собирается прикипеть делами, сердцем, на что потратить силы, годы, жизнь. И что он есть в свои неполные семнадцать лет, и чем он станет лет эдак через двадцать. Надо уходить от скудости и серости интересов своих одногодков, от цветастых платков мечтавших выскочить замуж поселковых девок. Надо строить свое будущее решительно и с размахом, не боясь быть первым, как не побоялся его прадед Ануфрий основать заимку в глухомани присаянской тайги.
Мысли эти давно не давали покоя, родились они, питались они отрывочными, порой бессвязными откровениями дядьки Данилы Афанасьевича, преломляясь через небогатый жизненный опыт самого Вовки.
Кроме Любы и Витьки в семье Беловых была еще старшая Люся, уехавшая из дома пятнадцати годов от роду, после окончания училища, где обучалась на штукатура-маляра, направлена была в одно из строительных подразделений Братскгэсстроя. Там вышла замуж, вскоре получили они с мужем и квартиру.
Хотел бы поехать туда и Вовка. Но приезжавшая погостить к родителям сестра убеждала, чтобы он сначала поучился — ну, хоть в Иркутске на охотоведа.
— Будет специальность, — говорила Люся, — устроишься куда угодно, а это дело, то есть охотоведение, я думаю, как раз по тебе. Вот и не тяни, поступай, а в армию и после института сходишь. В армии с образованием будешь на виду.
Люся рассуждала по-городскому, рано смекнув, что ученому человеку всюду полегче. Потому мужа-бетонщика толкнула на вечернее отделение техникума, где тот учился уже на третьем курсе.
— Потом, — убеждала брата, — на заочное в институт и будет начальником цеха, и я при нем — барыня. На директора, конечно, не потянет, но кто знает — может, до главного механика дойдет или до главного инженера. А это и квартира хорошая, и зарплата, и положение. Я сама сейчас хожу на курсы кройки и шитья, дома всех обшивать буду, да и лишний заработок в семью. Я, Володя, весь век штукатурить и малярничать не собираюсь. Работа эта не женская — тяжелая, грязная. Я потом куда-нибудь в ателье устроюсь. Так что ты долго не думай, а поступай учиться, ну и мы с Игорем подможем, чем сможем, — не век же тебе в этой глухомани прозябать. Давай, братик… По лету же приезжай к нам погостить. Город покажем, посмотришь, как люди живут. Ты ведь нигде не был, потому и Ануфриево тебе кажется столицей. Между тем Ануфриево — поселок умирающий. Ну, десять лет еще, пятнадцать — и лес кончится. А так как другого производства здесь нет и не предвидится, людям станет нечем жить. Он уже умирающий. Посмотри, за сколько километров люди ездят валить лес и как стало трудно вывозить его из лесосек. Теперь вспомни, сколько вокруг Ануфриева лет десять назад было мелких леспромхозов — десятки, если не сотни. И где же они сейчас? Все расформированы: техника, дома вывезены, люди разбрелись кто куда, хотя там остались родные им могилки. И никто не спросил: хотят ли они выезжать или не хотят. Так же будет и с Ануфриевом. Или посмотри, как люди стали пить, особенно молодежь, которой бы вперед глядеть, строить собственную жизнь, чтобы в жизни этой добиться чего-то путного, а им ничего не надо. Почему? Да все по той же причине — по причине отсутствия перспектив. А молодежь к этому всегда была особенно чувствительна.