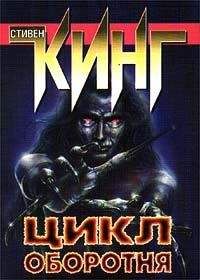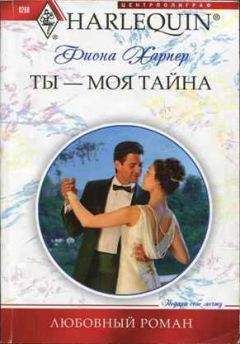Теофиль Готье - Капитан Фракасс
При этом Жакмен Лампурд печально извлек из ножен кусок рапиры с клеймом в виде буквы «С», увенчанной короной, и обратил внимание герцога на ровный и блестящий излом стали.
— Такой поразительный удар смело можно приписать Дюрандалю Роланда, Тизоне Сида или Отеклеру Амадиса Галльского, — продолжал бретер. — Признаюсь смиренно, что убить капитана Фракасса не в моих силах. Удар, который я ему нанес, до сих пор парировали наихудшим способом, иначе говоря, собственным телом. И те, что испытали его, приобрели лишнее отверстие на камзоле, через которое выпорхнула душа. Вдобавок капитан Фракасс, как все герои, наделен великодушным сердцем. Я был безоружен перед ним и порядком растерян и обескуражен своей неудачей, ему стоило только руку протянуть, чтобы насадить меня на вертел, как перепелку, а он этого не сделал, что весьма деликатно со стороны дворянина, подвергшегося ночному нападению посреди Нового моста. Я обязан ему жизнью, и, хотя это не бог весть какая услуга, принимая во внимание, что я недорого ценю свою жизнь, все же он связал меня благодарностью, и я никогда ничего не буду предпринимать против этого человека, — он теперь для меня священен. Да и будь у меня на то силы, я посовестился бы покалечить или погубить столь славного фехтовальщика, тем более что они становятся редки в наш век бездарных рубак, которые и шпагу-то держат, как швабру. Посему я пришел предупредить вашу светлость, чтобы вы больше не рассчитывали на меня. Быть может, я имел бы право оставить себе деньги, как возмещение за опасности, на которые шел; но совесть моя восстает против таких сделок.
— Во имя всех чертей, забирай сейчас же свои деньги, — произнес Валломбрез тоном, не терпящим возражений, — иначе я прикажу выкинуть тебя и твою казну в окна, не раскрывая их. Сроду не видывал столь совестливых жуликов. Ты, Мерендоль, никак не способен на столь красивый поступок, который так и просится в назидательные прописи для юношества. — Увидев, что бретер заколебался, он добавил: — Дарю тебе эти пистоли, чтобы ты выпил за мое здоровье.
— Это, монсеньор, будет выполнено свято, — ответил Лампурд, — однако ваша светлость, надеюсь, не обидится, если часть из них я употреблю на игру.
И, сделав шаг по направлению к столику, он протянул свою костлявую руку, с проворством фокусника схватил кошелек, и тот, как по волшебству, исчез на дне его кармана, где, издав металлический звон, столкнулся со стаканчиком для костей и колодой карт. По непринужденности движений нетрудно было заметить, что Жакмену Лампурду куда привычнее брать, нежели отдавать.
— Я лично уклоняюсь от участия во всем, что касается Сигоньяка, — заявил он, — но, если вам угодно, монсеньор, я порекомендую взамен себя моего alter ego[17], кавалера Малартика, человека настолько сметливого, что ему можно поручать самые рискованные дела. У него изобретательный ум и ловкие руки. К тому же он вполне свободен от предрассудков и предубеждений. Я в общих чертах набросал план похищения актрисы, которой вы оказываете честь своим вниманием, а Малартик с присущей его методе точностью разработает этот план во всех подробностях. Что говорить, многим сочинителям комедий, которым хлопают на театре за умело построенный сюжет, не мешало бы советоваться с Малартиком насчет хитросплетений интриги, изобретательности и ловкости махинаций. Мерендоль знает Малартика и может поручиться за его редкостные качества. Ничего лучшего вам, монсеньор, не удалось бы найти, и я, смею сказать, делаю вам настоящий подарок. Однако не стану злоупотреблять терпением вашей светлости. Когда вы соизволите принять решение, вам достаточно будет приказать, чтобы кто-нибудь из ваших слуг начертил мелом крест слева от входа в «Коронованную редиску». Малартик поймет и, должным образом переодетый, явится в особняк Валломбрезов, чтобы получить точные указания и приступить к делу.
Завершив свою блистательную речь, мэтр Жакмен Лампурд проделал те же сложные манипуляции со своей шляпой, что и в начале беседы, затем нахлобучил ее на голову и вышел из кабинета размеренным, величавым шагом, весьма довольный своим красноречием и умением себя держать перед знатным вельможей.
Это оригинальное явление, менее удивительное, однако, в тот век светских дуэлистов и наемных убийц, чем во всякую другую эпоху, немало позабавило и заинтересовало молодого герцога де Валломбреза. Жакмен Лампурд понравился ему своей незаурядностью и своеобразной честностью; он даже простил этому бретеру неудачную попытку убить Сигоньяка. Раз барон устоял против подлинного мастера фехтования, значит, он действительно непобедим и получить рану от его руки не так уж позорно и мучительно для самолюбия. Да и при всем своем буйном нраве Валломбрез не переставал считать убийство Сигоньяка довольно неблаговидным поступком, но не из чувствительности или совестливости, а потому, что противник его был дворянин; он не задумался бы отправить на тот свет с полдюжины неугодных ему буржуа, потому что кровь подобного сброда имела в его глазах не больше цены, чем ключевая вода. Конечно, он предпочел бы сам сразить своего соперника, но превосходство Сигоньяка как фехтовальщика, превосходство, о котором напоминала боль в едва затянувшейся ране на руке, оставляло мало шансов на благоприятный исход новой дуэли, или нападения с оружием в руках. Таким образом, ему больше улыбалась мысль похитить Изабеллу, открывавшая перед ним заманчивые любовные перспективы. Он не сомневался, что в разлуке с Сигоньяком и со своими товарищами молодая актриса не замедлит растаять, подпав под обаяние молодого герцога, наделенного столь обольстительной наружностью, кумира самых высокопоставленных придворных дам. Неисправимая самонадеянность Валломбреза опиралась на обширный опыт, оправдывающий его притязания, и в самом своем наглом хвастовстве он ни на йоту не грешил против истины. Хотя Изабелла только что отвергла его, молодой герцог считал несуразной, абсурдной, немыслимой и оскорбительной самую возможность не быть любимым.
«Стоит мне продержать ее несколько дней в уединенном уголке, где она будет всецело в моей власти, и я, уж конечно, сумею ее покорить, — мысленно рассуждал он. — Я покажу себя таким внимательным, таким пылким, таким красноречивым, что вскоре ей и самой станет непонятно, как могла она так долго мне противиться. Я увижу, как она смущена, как при моем появлении меняется в лице и опускает свои длинные ресницы, а когда я обниму ее, она, стыдясь и робея, склонит головку мне на плечо. Отвечая на мой поцелуй, она признается, что давно меня любит, а упорством своим хотела лишь разжечь мой пыл, или же сошлется на страх и трепет смертной, преследуемой богом, или начнет лепетать еще какой-нибудь милый вздор, который всегда найдется в такие минуты у женщины, даже у самой целомудренной. Но когда она будет моя и душой и телом, тогда-то я отплачу ей за прежние обиды».