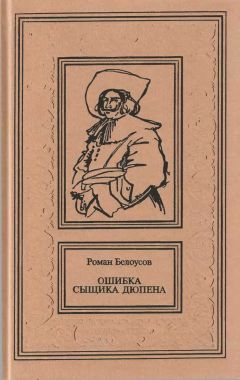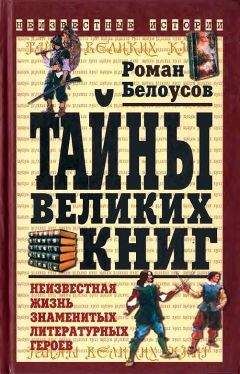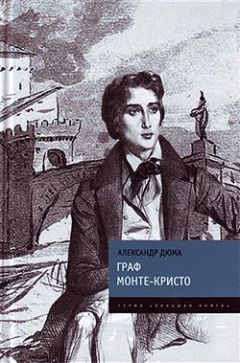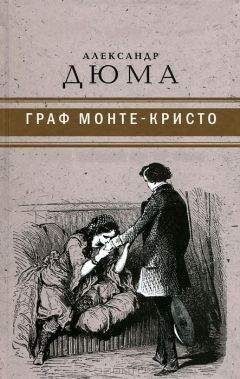Роман Белоусов - Ошибка сыщика Дюпена. Том 2
По словам Сент-Бёва, Флобер сумел дать анализ— глубокий, тонкий, обстоятельный — чувств и поступков своей героини, проникнуть в сердце госпожи Бовари. Ему это удалось потому, что он владел «пером так, как иные — скальпелем», заметил тот же Сент-Бёв. Но и сам Флобер говорил, что, анализируя поступки своей героини, ощущал холод скальпеля, проникающего в его тело. «Сердце, которое я изучал, было мое собственное сердце».
Он надеялся, что роман, рождавшийся в муках творчества, станет пределом психологического постижения характера героини, захваченной «поэзией любви». Флобер смел думать, что ему удастся показать трагедию чувств в мире мещанства — ведь если говорить о любви, то это был главный предмет его размышлений в течение всей жизни.
И тем не менее каждая страница давалась ему с неимоверным трудом. «Отвратительная работа!»— жалуется он Луизе Коле в моменты творческого застоя. Однако, пережив минуты вдохновения, признается, что любит свою работу яростной и извращенной любовью, как аскет власяницу, раздирающую ему тело.
Он переделывал фразы, перечеркивал, исправлял до тех пор, пока нельзя уже было ничего разобрать. Тогда страница летела в корзину, и он начинал заново. Зато какое блаженство испытывал, удачно завершив главу или эпизод. Теперь можно было выкурить трубку и отправиться в сад, захватив написанное. Прохаживаясь по липовой аллее, он вслух читал рукопись, изумляя соседей громоподобными раскатами голоса. «Опять господин Флобер горланит», — удивлялись они. И действительно, он «горланил», напрягая голос, как бы проверяя декламацией звучность и ритм текста. Каждая страница словно вторично рождалась в раскатах его могучего баса. Окончив «сеанс», Флобер возвращался в дом обедать.
Наскоро проглотив еду, что всегда вызывало недовольство матушки, он спешил вернуться в кабинет, где «оставил молодую, запутавшуюся в грехах женщину». Десятилетняя Каролина Амар, дочь его покойной сестры, прекрасно знала эту романтическую госпожу. Когда дядя Гюстав вставал из-за стола, он обычно говорил: «Что ж, пора вернуться к Бовари…»
Толстый позолоченный Будда бесстрастно дремлет в углу комнаты. Он всегда одинаково безразличен и к холодному зимнему ветру, и к затяжному осеннему дождю, и к бушующей за окном реке. Так же спокоен он и перед лицом страстей. И как бы ни был взволнован хозяин кабинета, восточный истукан взирает на него с обычным равнодушием.
А между тем хозяин действительно очень возбужден. Лицо его вздулось от прилива крови, шея налилась, лоб побагровел. Вобрав голову в могучие плечи, он уставился на исписанный лист бумаги. Только что отравилась Эмма Бовари. «Она двинулась прямо к третьей полке, схватила синюю банку и, вынув горсть белого порошка, тут же принялась глотать». Флоберу стало тяжелее дышать, грудь стеснило и он вдруг почувствовал странное сильное недомогание. Не хватало воздуха, он задыхался. Во рту отчетливо ощущался вкус мышьяка, который только что проглотила Эмма. Прикрыв рот рукой, Флобер едва успел выбежать из кабинета. Его вырвало…
«Буржуа и не догадываются, что мы подаем им на стол наши сердца. Род гладиаторов не вымер, каждый художник принадлежит к этому роду. Он развлекает публику своей агонией».
В этот вечер с радостью и облегчением он написал, что «Бовари» близится к завершению.
Как измучила его эта книга, Боже, как он устал, сколько выстрадал! Предложи ему сейчас кто-нибудь начать снова этот проклятый роман, он не согласился бы ни за какие миллионы. В минуту отчаяния он пишет на уголке письма: «Пора кончать с „Бовари“!.. Нет, эта книга — не мое детище, не моя плоть, не мной выношена…»
Пятьдесят три месяца упорного труда и ежедневного — днем и ночью — общения с тенью Дельфины Де-ламар, принявшей облик Эммы Бовари. За это время было исписано тысяча семьсот страниц — чтобы оставить в окончательном варианте около пятисот.
Наконец, в конце мая 1856 года Флобер отправил рукопись в редакцию «Парижского обозрения». Роман был опубликован и расходился сверх ожиданий автора.
«Только женщины, — записывает Флобер в те дни, — смотрят на меня, как на „ужасного человека14. Находят, что я слишком правдив». Однако кое-кто усмотрел в книге нечто иное, более опасное, нежели правда.
Случалось в истории, и не раз, что литературное сочинение и его автор были преследуемы судом. Но, пожалуй, ни в одну еще эпоху не преследовали писателей за их книги так яростно, как во времена Второй империи. Первое, что предпринял Наполеон III, захватив власть, — упразднил закон о свободе печати. Теперь, репрессии грозили любому изданию, и прежде всего журналам и газетам, заподозренным в отсутствии политической лояльности.
Полицейские меры принимались и против тех писателей, которые в своих произведениях якобы нарушали правила общественной нравственности. По обвинению в «аморальности» к суду в то время привлекались Ш. Бодлер, братья Гонкуры, Э. Фейдо, Т. Готье, Э. Золя. Оказался на скамье подсудимых и Г. Флобер.
Ему инкриминировали оскорбление общественной морали, религии и добрых нравов на основании закона от 17 мая 1819 года и 59-й и 60-й статей уголовного кодекса.
Вместе с писателем перед судом предстали редактор «Парижского обозрения» господин Пиша — за то, что поместил в своем журнале столь вредное сочинение, как «Госпожа Бовари», а также господин Пилле, типограф, — за то, что напечатал его.
В сущности, под предлогом борьбы с безнравственностью в литературе власти вели наступление на свободомыслие. Негодование властей вызвал не только сам роман Флобера, но и то, что он появился в таком либеральном издании, как «Парижское обозрение». Этот журнал, занимавший враждебную правительству позицию, полиция уже дважды предупреждала. Теперь представлялся случай разделаться с ним окончательно. Словом, подоплека была явно политическая, а не литературная, хотя правительство и пыталось представить свои действия как акцию, направленную исключительно против безнравственного и антирелигиозного сочинения. С этой целью выискали в книге Флобера несколько непристойных и безбожных отрывков. Писателю пришлось предстать перед судебным следователем, и судопроизводство завертелось.
Что ожидало его в случае признания виновным? Возможно, год тюрьмы, не считая штрафа в тысячу франков. Сверх того, замечает в те дни писатель, каждая книжка отдельного издания подверглась бы жестокому надзору и мелочной критике господ из полиции, а в случае рецидива он снова очутился бы на «сырой соломе тюремной камеры», приговоренный к пяти годам заключения. Короче говоря, он не имел бы возможности напечатать ни одной строчки.