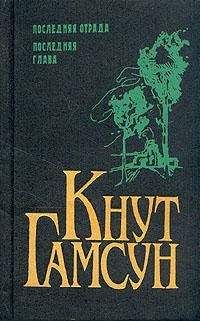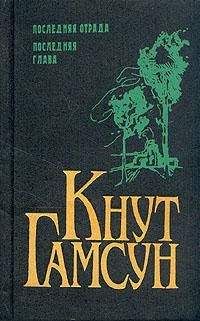Борис Изюмский - Избранное
Слезы застлали глаза. Она тихо запела, прислонив голову к раме:
Я в те норы
Мила друга забуду,
Когда подломятся
Мои стары ноги,
Когда опустятся
Мои белы руки,
Засыплются глаза мои
Песками…
Еще сиротливей стало на душе. Горемыка она, горе горькое! Нету у нее ни отца, ни матери, есть только любимый Бориска. Да и тот вернется ли к ней снова?..
И она запела громче, сетуя:
Без тебя я —
Тонкая береза,
Белая, кудрявая —
Сиротка!
Меня солнышко
И месяц не греют,
Частые звезды
Не усыпают.
Внизу, мимо окон светлицы – Фетинья не видела его, – увальнем прошел рудый Сенька. Один и другой раз. Услышав песню, так растянул рот, что широко открылись красные десны. Но и у него на сердце стало тоскливо. «Чем я ей не жених?» – с недоумением прошептал он, еще повертелся под окном и поплелся пить пьяный мед.
Фетинья сидела долго, пока совсем не стемнело. Загорелись на небе большие, яркие звезды. Она почувствовала себя такой маленькой в этом неуютном мире, что, не выдержав, соскочила с подоконника, юркнула на лавку под прохладное укрывало. Свернувшись калачиком, сказала себе: «Стану только о любом думать!»
Память ничего не погасила, все сохранила… Вот Фетинья с Бориской вышли к солнечной поляне, поросшей густой травой. Они сели на два пенька рядом, молча глядели на синюю стену бора, видневшуюся меж стволов ближних осин…
И эта яркая изумрудная трава, и птичьи голоса, доносящиеся издалека, и всплески весел в озерке за бугром – все это было и внутри, частью их тихой радости. В их глазах можно было прочитать: «Как щедра к нам жизнь!» Они поднялись и пошли дальше.
Их привлекла к себе открытая дверь кладбищенской изгороди. Виновато прижимаясь друг к другу, словно чувствуя неловкость за свое счастье перед теми, кто лежал под тяжелыми плитами, они шли узкой тропой меж могил. Солнце скрылось. Багряные гроздья рябины потемнели. Приветливо подмигивали, пролетая от куста к кусту, светлячки. Проскрипели за оградой колеса воза. И случайно или нет – Фетинья до сих пор не знала этого – губы юноши коснулись ее щеки.
Это было так ново, так хорошо, что они долго стояли рядом у могильного камня, повернувшись к нему спиной, глядели на темнеющий вдали Кремль, не смея больше прикоснуться друг к другу – и все-таки очень близкие…
О чем думали они в эти минуты? О том, как благодарны жизни, что нашли друг друга? И как надо беречь то, что нашли? Ничем не омрачать, не замутнять свое счастье?
Фетинья еще туже свернулась калачиком. «Кирпа моя, кирпуля!» – ласково прошептала она в темноте. Так называла она Бориску. Слово это завез в Москву гость из Киева, и значило оно – курносый.
«Не согласится князь на замужество наше – уйду за Бориской куда глаза глядят! – думала она. – Я ведь вольная. Никто не смеет порушить любовь нашу. Лучше в лаптях ходить, а не в сафьяне, только с тобой, Борисонька! В дерюге, а не в багрянце, да с тобой, желанный! Воду, а не мед пить, да в твоем дому… Сама тебя выбрала, как сердце подсказало, и никто мне здесь не указчик. Буду тебе верной подругой, не замуравит дорожка к сердцу твоему… Тяжко мне, ох, тяжко без тебя! Сенька краснорожий пристает, княжич Симеон тенью ходит, издали все поглядывает – туда же, птенец желторотый! Сегодня, как ушел, след его веником замела, чтобы не приходил боле… Знай, Борисонька, дождусь тебя!»
Она взяла в острые зубы край укрывала, натянула его и так уснула.
САРАЙ-БЕРКЕ
Иван Данилович въехал в ханскую столицу Сарай-Берке в полдень.
Долгий изнурительный путь утомил князя и его небольшой отряд, но город не сулил отдыха. Земля накалилась, походила на запекшиеся, потрескавшиеся губы.
Изредка по ясно-голубому небу проползала, не отбрасывая тени, прозрачная тучка, и снова ослепительно чистое небо источало зной.
Татары в городе встречались редко – были на кочевье. Зато на каждом шагу попадались византийцы, черкесы, сирийцы.
– Из Таны в Астрахань я ехал на волах двадцать пять дней… – немного заикаясь, говорил, переходя улицу, худосочный, с редкой бородкой фряжский купец стройному, высокому арабу в чалме.
– Зачем посылать за шелком в Китай, если можно закупить его здесь? – с недоумением спрашивал его араб, неторопливо передвигая длинные, как у цапли, ноги.
Калита, прислушиваясь к фряжской речи, усмехнулся: «Учуяли наживу! Надобно их к нам привадить!»
От реки на повозках и арбах верблюды тащили в город воду в глиняных кувшинах. Вдогонку кобылице побежал с тревожным ржанием тонконогий жеребенок.
За несколько лет, что не был московской князь в Сарай-Берке, город неузнаваемо вырос, обстроился дворцами, мечетями, складами.
Стены домов сделаны были из голубого камня. В этой голубизне сказочно цвели красно-желтые цветы, выложенные из камня же искусными руками пленных мастеров. Ханский дворец – с золотым серпом на верхушке – пустовал. Узбек со всем двором выехал за город, в Золотой шатер.
Шесть десятков лет назад основал хан Берке этот город, и вот каким он стал. «Москва через столько лет краше будет», – успокаивая себя, думал Иван Данилович, шагая с Бориской широкой улицей.
Они миновали монетный двор, ханские мастерские, прошли вдоль городского вала со рвом, переправились через канал и вышли к базару.
Лениво обмахивались ветвями греки в скупой тени редких деревьев. Густая пыль обволакивала медленно тянувшийся караван кипчаков; нехотя скрипели телеги, утомленно звенели бубенчики, гортанно покрикивал погонщик, похожий на обгорелую головешку. Понурив голову, плелись огромные бараны, с трудом тащили свои тяжелые курдюки.
На площади, покрытой рундуками, возле еще не погруженных тюков с товарами для дальних стран, лежали бурыми грудами косматые двугорбые верблюды. Оглушительно ревели быки, ржали кони, приготовленные для отсылки в Индию. Пахло пряностями и дубленой кожей.
Восемь лошадей тащили на широкой, по-особому сбитой телеге большой медный колокол. Бориска увидел его, и глаза загорелись: «Ух, хорош! Такие дедушка Лука лил…» Сразу пахнуло детством. Показалось, ступил на порог мастерской, ноздри ощутили запах дыма.
– Кто сработал? – спросил Бориска, идя рядом с телегой, у погонщика в широкополой шляпе.
– Римский великий маэстро Бартанелло, – процедил надменно сквозь зубы погонщик.
Бориска даже не обратил внимания на то, как ответил спесивец, – неотрывно глядел на колокол: наверно, отлит был для православной церкви в Сарае.
– Я бы уже такие лил! – невольно вырвалось у Бориски, когда он возвратился к Калите.
– Затосковал кулик по своему болоту, – пошутил князь.