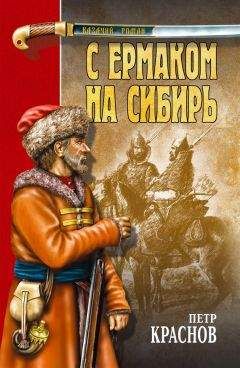Петр Краснов - Белая свитка (сборник)
— Как порешили? — еле слышно проговорил Семен Данилович.
— Да убили ж! Чтобы, значит, ни казакам, ни хохлам. По справедливости.
— А матки?
— Поделили. Да уже многие повыкидали. Запрягать стали, бить чем попало. Сдурел народ. И машины делили, тоже драка была. Хотели деревья фруктовые выкапывать, да не знаю, выкопали аль нет.
— Ну а комитет что?
— Что комитет?! «Хронтовики» ничьей власти не признают… Что старуха, скоро, что ль, чай? — крикнул он за перегородку.
— Сейчас, родимый, — отозвалась жена Зимовейскова.
— Чаем, Семен Данилович, напою, накормлю, чем Бог пошлет, да и езжай с Богом. Прости, Христа ради, нельзя. — И старик, понизив голос, продолжал: — У меня, внизу, писарья полковые. Проснутся, дознают, что ты у меня… беда. И тебе и мне несдобровать. Тут один другому… такой сыск! все чего-то боятся, никто никому не верит.
— Да, вчера у Сархаладыка Камрадова в кибитке пулемет искали.
— Боятся.
— Да чего же они-то боятся?
— А всего. Все им снится опасность. Тут сколько мальчиков кадетов да офицерьев, сказывают, убили.
— За что?
— Против народа идут.
— Истинное наваждение.
— Да вот поди ж ты!
Старик и рад был дорогому гостю, и боялся, чтобы не раскрыли его у него. Он все покрикивал на жену: «Потише, Матреша, да не греми ты, ради бога, посудой».
— На ледник сходить, что ль, за молоком-то, или в кладовку?
— Нет, не ходи лучше, старая, — услышат.
— Да как же так без молока-то? — слезливо моргая старыми глазами, говорила старуха.
— Семен Данилович простит. Экое время, время-то какое, и гостя принять как следует нельзя. Подай, Матреша, хотя варенья к чаю. Там, кубыт, ежевика у нас осталась.
Чувствовал Семен Данилович, что не в пору он гость, и рад и не рад ему старый Зимовейсков.
Боится!! И горько ему стало. Что он? Преступник, что ли? Прокаженный какой?!
Он пил бледный чай из тонкого стеклянного стакана. Ему здесь каждый кусок поперек горла становился, но пил из вежливости, чтобы не обидеть хлопотавших для него ночью хозяев. Он вяло слушал рассказы Зимовейскова.
— Сын у меня в полку. Так, что говорит: землю делить поровну надо. И хохлам, и казакам одинаково. Потому и хохлы, говорит, такие же граждане. Что же, говорю я ему, от казаков, значит, землю отбирать будете? — Да, говорит, придется… Вот оно дела-то какие!..
— Ну а старики как? — спросил Семен Данилович.
— Молчат. Что же поделаешь. Их сила. Все они оружейные, да злые такие. На отцов кричат! Им что? Они и отцов побьют.
— Значит, боитесь?
— Боимся, — тихо сказал Зимовейсков.
— Пропал, значит, Дон.
— Значит, пропал, — тупо повторил старый казак.
И было опять ощущение, что какая-то высокая каменная непроницаемая стена встала между ним, коннозаводчиком Топольковым, и хуторянами.
Семен Данилович допил чай, встал, поблагодарил хозяев и стал прощаться. Его не удерживали.
— Прости, Христа ради, — говорил Зимовейсков. — Рассвет скоро. Не увидали б.
Распахнулись ворота, неохотно вышли из них нуждавшиеся в отдыхе кони и пошли по уличке из хутора.
Выехав в степь, Семен Данилович свернул целиною на свой зимовник.
В бледном туманном рассвете весеннего дня замаячили вершины тополей, показались черные раскидистые ветви яблонь и груш фруктового сада и темно-коричневая железная крыша дома. Потянулись соломенные крыши сараев и служб, тын и за ним корявые ветлы над греблей. Все как было.
Комик прибавил шага, почувствовав близость дома, и коротко заржал.
— Домой, бачка, поехал, — сказал калмык.
— Домой, куда же больше.
Стало светло. Поднявшееся солнце было не видно за туманом, но чувствовалось, что скоро ярко заблестит оно с высокого голубого неба и настанет теплый весенний день.
Тихо на зимовнике. Не идут с гоготаньем гуси к воде, не поют петухи и не видно на грязном базу застывших, как изваяния, буро-красных волов.
Топольков въехал в усадьбу. Пусто. Там и там валяется гусиный пух, головки и крылья кур. Мертвый полуоглоданный собаками рыжий жеребенок лежит в углу. Все ворота сараев и конюшен открыты и всюду пусто. Виден только сор. Валяются клочья соломы, сена, у кладовой просыпана мука, лежат разбитые бочонки и кадки.
На конюшне жеребцов остались только солома и навоз.
Семен Данилович слез с лошади и приказал калмыку завести ее в денник и расседлать, а сам пошел к дому.
Там тот же беспорядок. В гостиной на полу лежат разбитые рамки от фотографий, разорваны портреты.
Книги и журналы растрепаны и разбросаны по полу. В кабинете железная касса разбита и лежит в куче мусора. Платье, белье, двухствольное охотничье ружье исчезли.
Вдруг раздались по комнатам быстрые шаркающие шаги, костлявые пальцы впились в локоть Семена Даниловича и горячие слезы оросили его руку вместе с сухими поцелуями.
Савельевна…
Простоволосая, с растрепанными прядями седых косм, с раскрытой шеей, худая, с воспаленными горящими голодными глазами… Безумная.
— Барин мой, миленький барин, одни мы на белом свете остались и степь не прокормит нас двух стариков. Ничего, ничегошеньки нам не осталось! — причитала, заливаясь слезами, Савельевна. — Ох, голодна я старая.
— Постой, Савельевна… У Ашаки есть чай, и сахар, и сухари, и сало, прокормимся покамест, а там, что Бог даст.
— А ты-то, родный, не уйдешь?
— Останусь. Ступай! Хлопочи с Ашакою и себе и мне закусить, а потом надумаем…
«Надумаем!..»
Сорок лет кропотливой работы, и нет ничего. Сорок лет борьбы со степью, победа над нею и побежденная степь благословила труды его…
Лежит фотография с ставки в 20 кобыл, снятая в Москве на выставке семь лет тому назад. Большая золотая медаль и премия коннозаводства! Восторги и рукоплескания публики и гордость Семена Даниловича. «Что вы их, из глины, что ли, лепили по одному лекалу…» Где он? Где эти лошади. А там росли еще лучшие!.. Где Калиостро, за которого семь тысяч заплачено, внук знаменитого Рулера?.. Где подобранные масть в масть, статья в статью кобылы? Где все это неисчислимое богатство лошадиного царства, равного которому нет ни в Америке, ни в Азии, ни в Австралии, да и нигде в мире. Разрушено и пало это царство и нет возможности поднять его! Что пропали быки и овцы, что не осталось ни одной курицы, что вывезены до последнего зерна запасы хлеба, что голод надвигается на богатого хозяина — это пустое. Степь прокормит. Он это знает по долгому опыту жизни в степи. Степь не покинет его. Но восстановить расхищенное и уничтоженное лошадиное царство, вернуть этих гордых лошадей, которые на войне догоняли и германца и австрийца… Сотни лет работы… А где эти сотни лет, когда уже немного осталось жить.