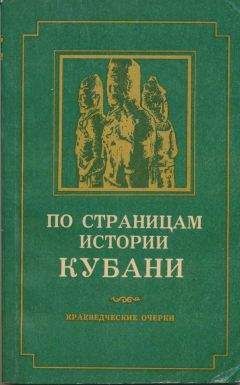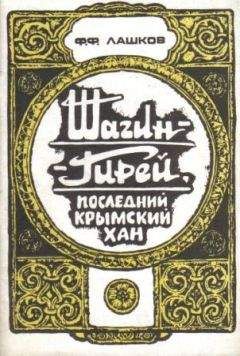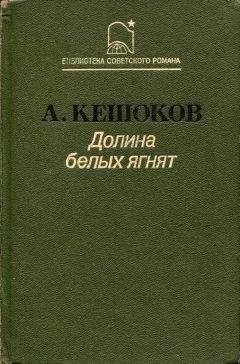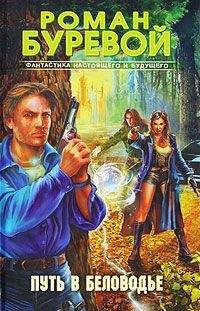М. Эльберд - Страшен путь на Ошхамахо
Тутук насмешливо фыркнул:
— А ты, мой мальчик, не дойдя до брода, рубаху не задирай!
Старый джигит обвел молодых соратников снисходительным взглядом.
— Ваши мамаши еще вас всех и рожать не думали, когда мы с удалым Каспулатом, сыном Муцала и внуком Сунчалея, били этих татар. Били на реке Тэн[172], били в степях тургутских[173], где целый день скачи — не увидишь ни деревца, схватывались с татарами, да и турками тоже у стен Азова и на великой украинской реке. И всегда почему-то крымцев оказывалось больше, чем нас, но мы их все равно расклевывали, как ястребы куропаток, и славу себе добывали немаловажную.
Каспулат, бедный, любил меня — и за то, что мое имя Сунчалей (как у его деда), и за то, что привелось мне разок-другой немножечко отличиться в кое-каких рукопашных стычках. Да-а… А вот этих, — он небрежно кивнул в сторону врагов, — надо было у переправы встречать. Там они не смогли бы действовать излюбленной повадкой — разворачиваться широкой лавиной и напирать всем скопищем. Ведь только в открытом и ровном поле сильна их конница. Да-а… На берегу, на узком берегу, клянусь железными ногами Тлепша, мы должны были на них напасть!
— Верно говоришь, Сунчалей! — согласился Шот. — Мы бы там слегка поразбавили Балк красной краской. Жаль, не успели встретить вовремя. Кургоко сидит сейчас в лесу вне себя от возмущения: некоторые наши князья не слишком спешили на его зов и дружины привели не слишком многочисленные.
— А кое-кто с охотой покорился бы хану! — вдруг вставил слово безусый паренек.
Сунчалей удивленно вскинул седые дремучие брови:
— Эге! Наша юная курочка запела — быть беде! На этот раз ладно, Бишка, прощаю твой невоздержанный язык. — Он обратился к Шоту и Тутуку:
— От волнения у него это. Первый раз в битву. А вообще он сказал правильно, хотя и должен был помалкивать, пока не спросили…
Некоторое время не только Бишка, но и все остальные молчали, глядя в сторону татарского становища.
Косматый серый войлок дождевых туч висел над горами, упрятывая в своей толще наиболее выдающиеся вершины. Ветра не было, но зябкая сырая промозглость добиралась до костей. Четверке джигитов казалось, что весь мир объят суровым, тоскливо-безысходным раздумьем, словно века покатились вспять — к той далекой древности, когда злонравный бог Пако лишил нартов огня и приковал к скалистому утесу в снегах Ошхамахо доблестного и мудрого Насрена, хотевшего вернуть огонь людям. Казалось, Насрен все еще там, в ледово-каменном плену, и хищный орел, затмевая свет исполинскими крыльями, терзает печень героя. Другой славный герой — Батараз — еще не убил чудовищную птицу, не освободил Насрена Длиннобородого, тхамаду нартов, и добрый благодатный огонь еще не скоро запылает в остывших очагах и унылых людских душах.
— Костров не разжигают, — тихо сказал Тутук.
— После такого ливня и поголовного купания в реке — где им взять сухую растопку? — резонно заметил Шот. — А мы вчера даже все заготовленное тут сено сволокли в лес…
— Ах, бедолаги! Ни обсушиться им, ни шурпу сварить, ни своих лохматых лошаденок сеном покормить!
— Смотри, шатры ставят. А вот и целая стая тетеревов расфуфыренных, — Шот покосился на лук друга и вздохнул. — Далековато. Пять раз по сотне шагов…
* * *На лесных прогалинах и под сенью вековых чинар, мощным массивом примыкавших к пастбищному плато, занятому татарами, собирались те, кто мог держать в руках оружие и считал себя адыгским мужчиной. С утра этот лес наполнялся защитниками родной земли, подобно тому, как напиток, льющийся из сосуда, наполняет чашу — сначала широкой струей, затем тоненькой, а под конец — отдельными каплями. Пеших воинов было несколько меньше, чем конных. А всего собралось около восьми тысяч человек, не отягощенных, кстати, медлительным обозом или даже вьючными лошадьми.
Простые ратники, из самых бедных земледельцев, дорожную поклажу свою — бурки, переметные сумы с припасами, а то и вязанки дров — привезли на трудолюбивых, но неблагородных ослах.
Жизнерадостный Ханаф, гостем которого недавно был сам пши Кургоко, сейчас подсовывал своему ослу пучки сена и приговаривал:
— Ешь, ешь, серенький! Не обращай внимания на этих надутых уорков, которые, проходя мимо, поглядывают на тебя с насмешливым презрением и зажимают породистые носы. Их, видишь ли, воротит от запаха твоей мокрой ослиной шерсти и моих раскисших шарыков. Но ты не смущайся. Мы ведь тоже, как уорки и их кони, воду не носом пьем.
Отдыхавшие рядом односельчане Ханафа, дружные братья Хазеша, Хакяша, Хашир и Ханашхо, сыновья покойного Хабалы, дружно давились от смеха.
— Понимаете? Наставляет дочь, чтобы невестка слышала!
— Запомни, серенький, — продолжал Ханаф, — мы с тобой трудимся всю жизнь от зари до зари и кормим не только себя, но и таких вот надутых чванством уорков. При этом мы не суем голову туда, где наш хвост застрянет, и не желаем другому того, чего себе не желаем.
Хабаловы сыновья веселились от души и похваливали своего друга (верно говорят: «Слово умное — вол, слово глупое — вошь»). В этот день им предстояло еще одно развлечение, но уже совсем другого рода.
Рыжий святоша Адильджери мыкался между группками воинов, неся людям вдохновляющие, как он надеялся, слова ислама, но редко кто признавал, что это слово — «вол». От рьяного еджага отмахивались старики, увлеченные сейчас воспоминаниями о битвах, происходивших чуть ли не в те времена, когда «Ошхамахо был кочкой, а Индыль[174] ручейком». Одноглазый зубоскал Нартшу со своими абреками просто его высмеял, нисколько не считаясь с тем, что Адильджери теперь уорк-шао и потому гораздо выше всяких там тлхукотлей. (Сам-то он очень быстро забыл о том, что тоже родился в крестьянской семье.) Ответил бы Адильджери наглецу ударом кинжала, да ведь опасно ссориться с абреками… Наконец неустанный проповедник ислама пристроился к дружным сыновьям покойного Хабалы и их приятелю Ханафу. Сначала мужчины слушали с интересом, потом стали задавать недоуменные вопросы:
— Вот ты, уважаемый еджаг, говоришь, что в эдеме прекрасно, там сады, орошенные потоками вод. Так? — спросил Ханаф.
— Так, — подтвердил Адильджери.
— Тогда скажи, разве мало садов на нашей адыгской земле? А разве не хватает воды? Да ее достаточно, чтобы взрастить в сто раз больше садов, чем у нас есть, да еще останется, чтобы затопить всю твою геенну огненную!
— Постой, неразумный ты человек! — улыбнулся Адильджери. — Ведь рай — это вечное наслаждение и отдых. Это изысканные яства и неземные гурии — девушки, значит, которые ублажают правоверных, умерших праведной смертью! Там нет ни трудов, ни забот, остается лишь славить аллаха да вкушать удовольствия.