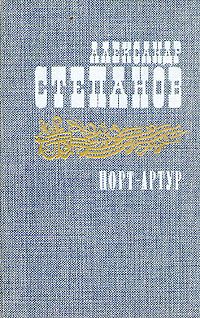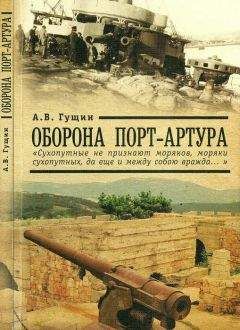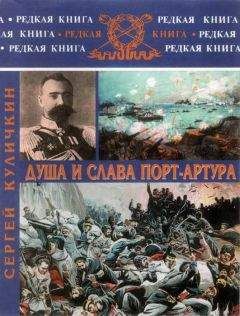Алексей Сергеев - Стерегущий
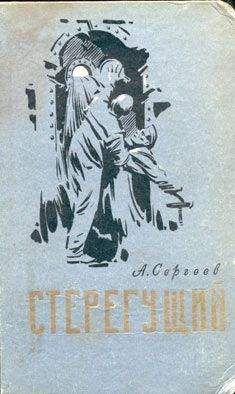
Обзор книги Алексей Сергеев - Стерегущий
Автор книги пережил оборону Порт-Артура, и был свидетелем героических и трагических событий русско-японской войны 1904–1905 годов. Кроме того, Александр Семенович Сергеев, командир «Стерегущего» — его двоюродный брат.
Роман «Стерегущий» остался незавершенным: внезапная смерть в 1954 году помешала А.С.Сергееву завершить свой труд. Но перед смертью, уже будучи тяжело больным, он все же договорился с литературным редактором о внесении в новую книгу всех необходимых поправок и дополнений. Согласно его завещанию, некоторые из неотработанных писателем глав были доработаны, в частности, сделаны уточнения там, где содержались исторические неточности.
Сергеев Алексей Степанович
«СТЕРЕГУЩИЙ»
Глава 1
ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЕВ
Привычка осталась с детства: заболеешь — укрывайся сразу двумя шерстяными одеялами, подоткнувшись ими с боков.
Вестовой поставил на столик самое необходимое при морской простуде — бутылку рома. Так учил лейтенанта Сергеева его дедушка: «Сто лет не пей, а при болезни рому выпей».
Александр Семенович через силу, как лекарство, выпил одну за другой две рюмки крепкого напитка, подтянул одеяло до самых глаз и сразу же согрелся. Потом его бросило в жар, и стало казаться, что койку качает, как в мертвую зыбь. От выпитого ли рома, или от жара мысли слегка стали путаться, выхватывая из памяти отдельные штрихи прошлой жизни…
Давным-давно не был Сашутка в этих маленьких горенках с крашеными полами, с мебелью в чехлах из корабельной парусины, с незабываемыми запахами за десятки лет обжитого уюта и домовитости. Чем тут только не пахло! Тут и аромат сухих грибов, да не каких-нибудь, а отборнейших красных и белых, и разных ягод, которых в городе, как говорит бабушка, ни за какие деньги не сыщешь… Ну, а здесь, дома, ягод не продают, для себя собирают. Ешь на здоровье… А не съешь, можно варенье сварить, засушить или залить водкой, чтобы наливка на зиму была. Когда сам дедушка ее пригубит, а когда гости приедут чужого попробовать. «Гости, прости господи, — говорит бабушка, — разорение…»
«Ну вот и дома… Дома!» — думает Сашутка, пропуская мимо ушей бабушкин голос, и слышит, как в сонной тишине однообразно тикают часы, а откуда-то из подпола доносится песня сверчка, а вот, пугаясь собственных шорохов, выкатились на воровской промысел юркие мыши…
Спаленка у Сашутки маленькая, но сколько дорогих детскому сердцу, родных и значительных вещей вместила она!
Комод с пузатыми, как виолончель, наружными стенками притиснул к углу детскую кроватку с пологом и сеткой. Напротив комода книжный шкаф. Чуть отступя от него, ближе к окну, клеенчатое кресло с наброшенной бисерной вышивкой, с растопыренными налокотниками, на которые можно положить голову и даже вздремнуть полулежа.
А перед креслом, боком к окну, в промежутке между двумя полосами портьеры, связанной еще прабабушкой, письменный стол из персидского ореха с семью ящиками. Портьера на окне, как узор; в тонкие кружева ее любит заглядывать лунная голубая ночь.
Кроватка с сеткой и пологом родовая, знаменитая. В ней спит не только Сашутка, но когда-то спал и его отец, про которого матрос Никитин, оставшийся после флота вольнонаемным вестовым у дедушки, крикнул как-то, полвека назад, вбежав в дедушкину спальню: «Вставайте, ваше высокоблагородие! Их благородие мичман Сенечка из Севастополя приехали».
Дедушка тогда в первый раз увидел сына офицером, при всех «Георгиях», честно заслуженных на севастопольских бастионах, и только поэтому простил своего вестового. А то бы припомнил старый матрос, как вбегать в офицерскую спальню без стука! Знать надо: даже когда на палубе крикнут «Аврал! Свистать всех наверх!», и то сначала к офицеру в дверь постучать следует, прежде чем войти.
Дедушка знал и умел соблюдать морские порядки. Но еще строже относилась к соблюдению морских правил бабушка, истолковывая их всегда на свой лад.
— У кого форменка чистая, — поучала она внука, — на того и бог во все глаза смотрит, от морской болезни и от бури спасает. Видит, что моряк правильный, чего с него взыщешь? Кто неаккуратный, или фуражка на голове пнем надета, чисто, прости господи, как воронье гнездо, с того, конечно, можно и голову снять. Зачем такому моряку голова, если он сам как пугало на огороде: что ни надень, все ладно, а люди смеются.
Солнышко по утрам еще стояло невысоко, как в спаленку входила бабушка в черной кружевной наколке на серебряных волосах. Она заставляла Сашутку вставать, не шалить около медного рукомойника с ледяной, прямо из колодца, водой, помогала чистить зубы сыпучим порошком с прохладным запахом мяты; потом одевала в красную канаусовую[1] рубашечку с серебряным кавказским кушачком или в синюю форменку. И все это делала с наставительными присказками. Век их не переслушаешь — русские ведь, свои, лучшие в мире! В плавучей жизни потом, когда взгрустнется вдали от родины, куда как пригодятся!
Чай пили вдвоем с бабушкой за круглым столом. Это «по-нарочному» называлось «чаем». Прямо в самоваре был заварен кофе с цикорием с собственной грядки дедушки, к которой он никого не подпускал, пока не снимал всего цикория.
— Боже ж мой, — умильно вздыхала бабушка, — пей — не выпьешь, еще и другим добрым людям останется… да вот что-то добрых людей на свете мало.
Никитин чинно стоял у двери, — вдруг дедушка выйдет в столовую. Бабушка споласкивала Сашину чашечку в фарфоровой полоскательнице, на которой были нарисованы корабли с распущенными парусами, голубые берега с голубыми голландками, торопливо бегущими на берег встречать, кого бог пошлет: кому отца, кому мужа, кому жениха, а кому старый сундук с вещами, завещанными милым, умершим на чужбине.
Саша брал из рук бабушки чашечку и ставил на свою клеенку, где мама нарисовала для него лодочки, а папа — огромный черный пароход с красной каймой вокруг борта, уверяя, что это русский сторожевой корабль, дозорный, стерегущий родные берега, страшный для врагов родины. Врагов, правда, на папином рисунке пока не видно, потому что они боятся корабля, но они всегда есть кругом.
— Так уж мир построен, — говорит бабушка. — Везде есть враги.
— Смотри не разбей чашечку, — предупреждала она, оглядывая принесенные Никитиным топленые сливки в маленьком сливочнике. Щупала рукой, теплы ли калачики, гревшиеся на спиртовой машинке, смотрела, на месте ли масло, соль. Если чего не хватало, прикрикивала на старого матроса: принеси то, принеси другое. Сашутка сидел чинно, как в корабельной кают-компании, про которую папа не раз говорил: «Уметь надо держать себя в кают-компании. Оскандалишься — и-и, брат мой, на свет потом не смотри! На всю жизнь потерял лицо! И говорить с тобою никто не станет, не то что водиться. Вот оно что такое кают-компания!»
Видел Сашутка: все слушаются бабушку, даже Никитин. Что она ни скажет, что ни сделает, все хорошо. И сам слушался.
Дымится кофе со сливками, во рту хрустит поджаренная корочка калачика, а бабушка подвязывает ему салфетку приговаривая:
— Рот не набивай, не набивай. Это только на кораблях воры-ревизоры да в лавках купцы-удальцы карманы свои набивают. А ты стерегущий, вон дерзкий какой, либо в отца, либо в дедушку… Ну, наелся или еще будешь, пронзительный?