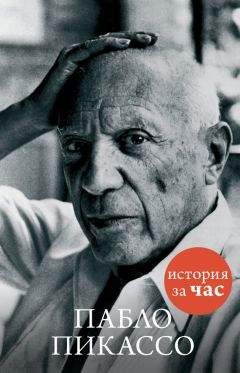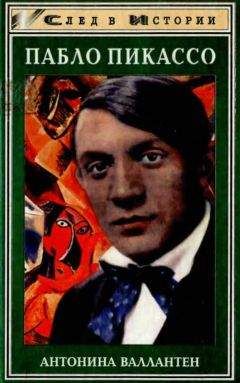Вадим Шверубович - О людях, о театре и о себе
У Василия Ивановича было очень острое и тонкое чувство нового. Он умел и любил найти новое, свежее, впервые сказанное, неповторенное и в картине, и в скульптуре, и в том, как сыграна роль, прочитано стихотворение, спета оперная партия или романс, исполнен танец. Он радовался этому и долго хранил о нем благодарную память. К доставившему такую радость он испытывал чувства, похожие на влюбленность. Всю жизнь он так был влюблен в Шаляпина, очень долго не мог без нежной, влюбленной улыбки вспоминать М. А. Чехова в Калебе («Сверчок на печи»), Фрэзере («Потоп»), Аблеухове («Петербург»)[9]. Очень любил Н. Ф. Колина и С. В. Гиацинтову в «Двенадцатой ночи».
Гораздо реже Василий Иванович бывал обрадован режиссерской работой. Мне кажется, он вообще не любил режиссера, если он был слишком явно ощутим. Не верил в возможность и, главное, в нужность «режиссерской экспозиции», в замысел, план, решение. Признавая нужность режиссера-контролера, режиссера-зеркала и, конечно, режиссера-организатора, наладчика спектакля, — он раздражался режиссерским трюкачеством, особенно если целью трюка, фортеля, самовыявления было проведение, утверждение злободневной позиции, иными словами — ненавидел режиссеров-конъюнктурщиков, карьеристов.
Карьеризм вообще он брезгливо презирал, но карьеризм в искусстве ненавидел остро и злобно. Даже талантливые люди, когда они лгали в искусстве, лгали искусством, заставляя лгать других ради своей карьеры, ради того, чтобы ничего в искусстве не понимающие, но высокопоставленные люди их похвалили, превращались для него в ничтожества. «Проститутка, самая вульгарная проститутка», — говорил он в таких случаях. Особенно мучительно было ему, если такой «проституцией» занимался близкий ему, связанный с ним годами дружбы и совместной работы человек. А это случалось.
Как-то огорчил его в этом смысле и я. Правда, это было совсем не в плане искусства-творчества, но все-таки то, как это огорчило Василия Ивановича, делает этот случай достойным описания.
В 1922 году наряду с другими работами мне было поручено провести инвентаризацию мебели на внетеатральных складах МХАТ. Уж не помню, каким именно способом мне удалось договориться с рабочими, назначенными мне в помощь, так, что условия, на которых они должны были работать, оказались очень выгодными для дирекции и невыгодными рабочим. Человек, руководивший в те времена финансами и хозяйством МХАТ, очень меня расхвалил и поставил в пример другим административным работникам. Я с гордостью сообщил об этом отцу. Реакция была неожиданной и бурной — он назвал меня негодяем и мерзавцем. «Неужели ты не понимаешь, что „делать карьеру“, радуясь похвалам какого-то кулака, вероятно, жулика и проходимца, тем, что обсчитывать рабочих, может только последняя дрянь. Надо делать все, что в твоих силах, чтобы они зарабатывали больше, а работали меньше, легче. Даже если тебя за это будут ругать всякие такие хозяйчики. Да их похвалы — позор для тебя!»
Он долго сердился и даже не разговаривал со мной. Я чувствовал в его отношении к себе брезгливую гадливость.
Еще об одном качестве Василия Ивановича мне бы хотелось рассказать. Правда, это не относится к «кодексу морали», о котором я пытался дать представление, но уж очень это качество для него характерно и как для человека и как для художника. Это свойственное ему мастерство, талант читателя, искусство чтения. Да, иначе как искусством эту его способность я не могу назвать. Он читал, продумывая каждую фразу, останавливаясь, возвращаясь к первым встречам с персонажем, перечитывая отдельные абзацы и целые главы по два, по три раза. Проверяя прямую речь на слух, ища интонацию, акцент, ритм ее. Если произведение не выдерживало такого внимания, было недостойно его, он с горечью расставался с ним, все-таки прочтя не менее половины. Но если привлекало хоть чем-нибудь, заинтересовывало его, вызывало сомнения или просто нравилось, он перечитывал его целыми кусками, читал вслух близким, а иногда почти незнакомым: соседям по купе, больным в больнице и в санатории, отдыхающим в доме отдыха. Читал, чтобы проверить и нравящееся ему и, наоборот, вызывающее раздражение, показавшееся фальшивым, «враньем», как он называл то, чему не верил. Нравящееся же читал вслух неделями, отыскивал все новых и новых слушателей.
Так у Василия Ивановича было на моей памяти с «Подростком» Достоевского, с повестями и рассказами Чехова, с Горьким (отдельные места из «Детства» и «Моих университетов», «Мордовки» и из других рассказов, главным образом поздних), с Буниным, с Л. Толстым («Война и мир», куски «Детства» и «Отрочества»). «Каренину» он любил несравненно меньше, а «Воскресение» до 30‑го года не любил совсем. Много позднее он почти так же увлекался Шолоховым, Паустовским.
Не могу не упомянуть уже многократно рассказанное.
Лежа в больнице, он вписал в сокращенный вариант «Мещорской стороны» Паустовского все выпущенные места, для этого ему достали в больничной библиотеке экземпляр с полным текстом. «Вдруг захочется перечесть, а тут очень хорошие места выпущены».
Как-то он разбудил ночью и мать мою и меня — очень захотелось прочитать нам поразивший и пленивший его кусок из роллановского «Кола Брюньона»: «Ну просто невтерпеж было…» — извинялся он потом, прочтя весь кусок, а потом еще два‑три места из него «на бис».
Быстрое, легковесное прочитывание книг возмущало Василия Ивановича и огорчало. «Ну что ты халтуришь, ну как это можно триста страниц в один день, ведь ты ничего не понял, ничего не просмаковал, не запомнил». Он раздражался, когда при беседе о недавно прочитанном романе путали имена, названия местностей… «Ну как ты читал, так, проглядел содержание, и все! Стоит для таких читателей работать!»
Не любя и никогда не применяя литературоведческой терминологии (я никогда не слыхал от него таких слов, как «эпитет», «метафора», «образ» и т. п.), он умел наслаждаться самим мастерством литератора, он и в прозе, как и в стихе, умел услышать ритм, отметить его смену, мелодию и гармонию речи. Только газеты он просматривал наскоро, но и то не для того, чтобы, узнав последние новости, отбросить газету, а для того, чтобы на одной-двух статьях остановиться и прочесть их вдумчиво.
Огромную работу Василий Иванович проделывал над переводными текстами. Впервые он приступил к такого рода труду, получив роль Гамлета. У него на столе лежало восемь-десять разных переводов — от Полевого до К. Р., и он неделями бился над каждой строкой, комбинируя из всех переводов такой, который казался ему наилучшим. Английского языка Василий Иванович не знал, но кто-то сделал ему подстрочный, дословный перевод трагедии — он и им пользовался. Хотя надо сказать, что этот перевод больше смешил его, чем помогал ему, — дословность оказывалась иногда анекдотичной.
Потом он так же работал над Ибсеном и Гамсуном, но не путем компиляции переводов, а просто исправлением переводов А. и П. Ганзенов. С наслаждением он занимался этим, работая над речами Брута и Антония («Юлий Цезарь» Шекспира). Переводы, бывшие в его распоряжении, ему не нравились. Его огорчало, что в них нет бронзового звона латыни. Он утверждал (так ему казалось), что Шекспир должен был хорошо знать латынь и что обе эти роли он, прежде чем написать по-английски, продумал и прослушал по-латыни. И сам Василий Иванович, работая над этими речами, прежде чем начать читать речь Брута, прочитывал по-латыни речь Цицерона о Катилине, а перед речью Антония — что-нибудь из «Метаморфоз» Овидия. Мне кажется, что его текст этих речей получился более близким к латинскому по звучанию и по строю фраз, чем это было у Шекспира в английском тексте. Василий Иванович шутя говорил, что Шекспир был бы им доволен, потому что ему, Шекспиру, не удалось в глухом и шипящем английском языке добиться звона царственной латыни. В русском ему, Василию Ивановичу, это удалось.
Эта страсть переделывать переводные литературные произведения распространялась у Василия Ивановича и на русские. Так, огромную работу он проделал над «Думой про Опанаса» Багрицкого. Он отлично понимал недопустимость искажения произведения, но ничего не мог с собой сделать. Причина этой страсти была в любви к произведению, в стремлении сделать его понятным, разъяснить дорогие и ценные мысли, которые казались ему недостаточно доходчиво или звонко выраженными. Он с тоскливым страхом ждал встречи с Багрицким, которому, он знал, стала известна такая его «популяризация». На вопросы друзей, зачем он это делает, раз понимает всю недопустимость такого вольничанья и раз ему потом приходится этого стыдиться, он раздраженно отвечал, что не может не стремиться к улучшению того, что ему нравится. Это, видимо, было выше его сил. При этом он одновременно и смущенно и упрямо выслушивал упреки в плохом вкусе, в литературной и синтаксической безграмотности своих «вариантов», но читать на концертах продолжал по-своему. Играло тут роль и то, что дикционно ему были всегда удобнее его варианты.