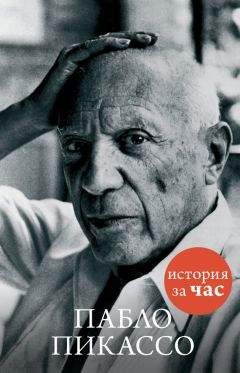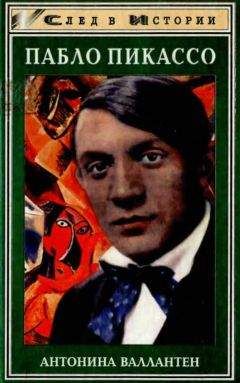Вадим Шверубович - О людях, о театре и о себе
Оба они сознавали риск, которому подвергались, но вера в необходимость революционной деятельности поддерживала в них полную убежденность, что отказаться от такого почетного и лестного риска мог только «трус и обыватель» (выражение отца) или уж отъявленный черносотенец. Прослыть же тем или другим было для них страшнее ареста, охранки и всех жандармов Российской империи. Общественное мнение, традиции, среда требовали от каждого честного интеллигента если не прямой революционной деятельности, то уж по крайней мере посильной помощи революционерам.
Знакомство с Н. Э. Бауманом, перешедшее в дальнейшем в теплую дружбу, произошло именно во время такой деятельности. Эта история уже многократно рассказывалась, мне ее повторять ни к чему, тем более что я не был, конечно, посвящен в эти дела. Помню только смешливого «дядю Тигра», как я его почему-то называл, веселую возню с ним, щекотку от мягкой бородки, которая попадала мне за шиворот, когда он, изображая зверя, загрызал меня — охотника. Ярче всего помню веселые, совсем не страшные глаза «зверя» и щекотно-ласковую бородку — ведь бороды в нашем актерском доме были редкостью.
Помню рассказ, почти сказку, которую мне рассказывала мать, сдерживаясь, чтобы не заплакать, что с ней случалось тогда очень, очень редко — она была совсем не слезлива. Рассказ был о добром человеке, за которым гнались враги; он убежал от них и долго ходил, больной и голодный, по улицам под дождем и снегом, в ветреную ночь поздней осени. Но он знал, что есть один дом, где его примут, обласкают, обогреют, накормят, напоят горячим чаем с малиновым вареньем и уложат спать в чистую, теплую постель под толстое пушистое одеяло. Там он будет в безопасности, ни один враг не будет знать, где он, там он сможет отдохнуть и подлечиться. Он уже предвкушал все это, когда поднимался по лестнице этого дома, но, когда позвонил и ему отворили, женщина, встретившая его, задала ему какие-то нелепые, непонятные вопросы и, еле выслушав его сбивчивые, бестолковые ответы, закрыла дверь перед его носом. Он, шатаясь от слабости, спустился и снова вышел под снег и дождь, но надежды на приют у него уже не оставалось.
Самое для меня тогда непонятное было то, что мать моя, такая беспощадная ко всем трусам, безжалостным, на мое возмущение и злобные слезы по адресу этой женщины сказала: «Она не виновата, она иначе не могла».
Это была не сказка — так оно было на самом деле: мать обещала принять и спрятать человека, который придет к ней в ту ночь, но он должен был произнести определенным образом построенную фразу-пароль, который Мария Федоровна Андреева заставила мать вызубрить абсолютно точно наизусть и велела никого другого, точно не знающего этот пароль, допустившего малейшую ошибку в его произнесении, не впускать. Больной Бауман — а это был он — забыл пароль, и мать его не впустила. Она была права — это мог быть охранник, и Бауман, придя после него, попал бы в ловушку. Но мать почувствовала, что пришел тот, кого она ждала. Она, выждав какое-то время, окольными путями помчалась к Марии Федоровне, рассказала ей о внешности приходившего, и та с огромным трудом, после ночи беготни по всей Москве, под утро разыскала Николая Эрнестовича в каком-то извозчичьем трактире, напомнила ему пароль, и когда он вторично пришел в наш дом, то был принят и прожил у нас несколько недель.
В это время и завязалась крепкая дружба его с отцом и матерью, дружба, длившаяся до самой его страшной смерти.
В декабре, когда началось вооруженное восстание, мы жили в самом центре города, дом наш смотрел на боковой фасад Большого театра, на боковой фасад Солодовниковского театра (где была Опера Зимина) и на Благородное собрание (ныне Дом Союзов). И хотя окна нашей квартиры выходили во двор, место казалось уж слишком центральным и потому опасным. Говорили, что эсеры-боевики заняли Большой театр и укрепляют его, что верные правительству войска будут разносить его из пушек; говорили, что в Благородном собрании революционерами спрятана пушка, которая будет стрелять по войскам. Мне кажется, что у нас в семье особой тревоги не было, родители мои не были трусами и, главное, уж очень революционно были настроены, но тем не менее персонально меня решили «эвакуировать».
Очень ясно помню морозный декабрьский вечер и закрытую карету, в которой меня везли к Станиславским в Каретный ряд. Их дом, расположенный за бульварным кольцом, в тихой, населенной интеллигенцией и торговыми служащими части Москвы, казался им безопаснее нашего, стоявшего «на юру» дома.
Недели две я прожил под одним кровом с Константином Сергеевичем, и образ его стал мне много яснее и гораздо милее. Ничто не противоречило тому представлению о нем, которое вычеканилось во мне рассказами отца, но многое чудацкое, нелепое, смешное, во что, как в вату, любовно укутывал его своими рассказами мой отец, рассеялось, стало прозрачнее, а то и совсем исчезло. Сам я еще не умел видеть смешное во взрослых (кроме того, на что мне указывали), а светлое сияние благорасположения, теплый свет ласки, очарование приветливости и, главное, серьезный, вдумчивый, «на равных» интерес к моим высказываниям, к мнениям и ощущениям — все это чувствовал в какой-то непосильной мне мере. Совпадение такого восприятия Константина Сергеевича с тем, что, мне казалось, так же принимал его мой отец, наполняло меня огромным счастьем и гордостью. От этого я еще больше любил обоих.
Очень грело мою душу осознавание одинаковости построения миров дома Станиславских и нашего. Как у них, так и у нас был огромный центр мира — у них больший, у нас меньший (такое ощущение масштабов мне внушил отец), но единственный и всеопределяющий. Этот центр ничего не делает для того, чтобы быть центром, — он только сияет, только распространяет свои лучи света, тепла, ума и добра. А то, что его окружает, поглощает это лучеиспускание и отражает его в обожании, в абсолютной преданности. Причем у них, как и у нас, обоготворение отнюдь не мешает высмеиванию, одергиванию и осаживанию, а иногда и пилению своего божества. Я уже знал и другие «миры» — бывал в других семьях и видел, что не у всех, далеко не у всех так, как у нас. Например, у Эфросов — он умнее, он лучше, но центр — она, потому что она считается лучше. Она (Н. А. Смирнова) решила, что она и умна и талантлива, а он (Н. Е. Эфрос) просто кадет-журналист. Решили, и вот те, кому так удобнее, верят в это. Но она была центром дома, а ни моя мать, ни Мария Петровна Лилина не были центрами, хотя (во всяком случае, Мария Петровна) имели на это не меньшее, чем Смирнова, право. Не были — потому что был центром Константин Сергеевич, а у нас — Василий Иванович. Бедный же Эфрос работал ночами, писал книги, был членом редакции одной из известных тогдашних газет, был умен, людьми уважаем, но из него центра не вышло.
Много сложных и долгих дум мучило мою детскую голову по этому поводу. Но сознание и чувство было: у Станиславских, Сулеров и у нас — правильно. У Эфросов, Дживилеговых и многих других — неверно.
За короткое время моего житья у Станиславских я на всю жизнь полюбил и его и Марию Петровну Лилину, жену Константина Сергеевича. Она больше всего несла в себе и щедро распространяла эту особую атмосферу нежности, но без нежничанья; любви, но без любезничанья; ласки, но без всякого поглаживания. Она была чуть суховата, чуть резковата, и мне она казалась не округлой и сладковато-липкой, как другие ласковые дамы, а жестковатой и шершавой почти до колючести. Но от нее исходило стойкое тепло и свет.
Значительно позже я понял то, что не умел себе объяснить тогда и только ощущал: Мария Петровна была нежна без сладости и женственна без бабства. Это тепло и суховато-жестковатая ласка, исходившая от нее, — это и было проявлением глубокой утонченной аристократической женственности.
В первую же ночь я проснулся оттого, что кто-то укрывал меня одеялом — подтыкал его под перинку. Это была Мария Петровна, а в дверях стоял Константин Сергеевич и, разглядывая меня из-за Марии Петровны, смешно, как птица, поводил головой. Он о чем-то (по поводу меня) спросил ее, и она ответила: «Да, очень хорошо». Никто не поцеловал меня, только Константин Сергеевич от двери перекрестил, и я уютно и счастливо заснул.
Марию Петровну мой отец считал самым строгим и справедливым ценителем актерского искусства и верил ей, ее вкусу, пожалуй, больше, чем кому бы то ни было, включая сюда и Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. Не верил ей он, только если играл роли Константина Сергеевича — Вершинина, Ракитина, Гаева, Штокмана: считал, что она после Константина Сергеевича в его роли никого принять не может. В Штокмане он так ей и не показался, но говорил, что очень ее отзыва ждет — трепещет.
Василий Иванович вообще не верил в беспристрастие актера, если речь шла о его, этого актера, ролях. Он говорил, что в роли, которую когда-либо играл, не может принять другого актера, что это органически невозможно. Отношение же Марии Петровны к ролям Константина Сергеевича он, видимо, приравнивал к отношению актера к своим ролям.