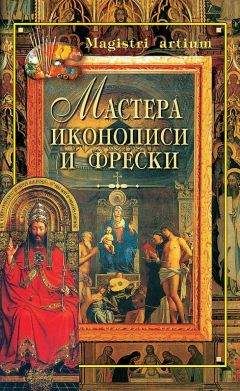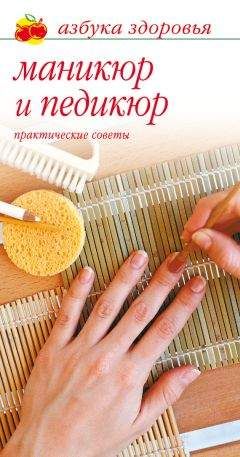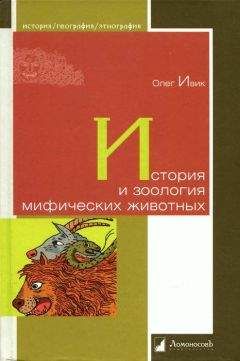Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
Зато все чаще стали вспоминать бабановскую традицию в русском театре. Уподобляли ей молодых актрис, как прежде ее уподобляли Асенковой или Грановской. Актрисы и сами примеряли на себя если не облик, то репертуар, ее {325} особую женственность без зрелости, ее славу. Тип девочки-женщины, некогда воплощенный Бабановой в его почти экстравагантной остроте, снова заменил на сцене образ зрелой женственности, героиней которой была Тарасова. К классике искали новых подходов, и бабановская особость в Джульетте или Диане незаметно снова становилась «актуальной». Сыграй она свою Ларису в наши дни — она не нуждалась бы ни в защите, ни в оправдании.
Теперь можно было услышать, что Алиса Фрейндлих с ее очаровательной музыкальностью, тонким, изящным и беспощадным рисунком ролей — актриса бабановского толка.
Ольга Яковлева, наивная и опытная, нелогичная и нервная, с ее прихотливыми, как бы синкопированными ритмами и срывающимся дыханием — современная девочка-женщина, сильная и слабая одновременно, Джульетта и Таня шестидесятых-семидесятых годов, — примеривала на выпуклый лоб бабановскую корону.
Они играли куда больше, чем успела за свою долгую жизнь Мария Ивановна Для них ставили спектакли. Вокруг их индивидуальности складывался театр. Ольге Яковлевой досталось то, что никогда не доставалось на долю Бабановой: Эфрос бережно взращивал и шлифовал ее талант.
Но великой была Бабанова. Это не умаляет таланта и славы ее наследниц. Просто Бабановы рождаются раз в столетие, а она к тому же родилась в то истинно театральное время, которое в ней нуждалось. Это было жестокое время, и оно обходилось с ней без милосердия и сентиментальности. Но оно подняло ее на своем гребне, как девятый вал поднимает искусного пловца на захватывающую дух высоту.
… Теперь, прожив долгую и трудную жизнь, она смотрела в будущее без особых надежд:
«“Поезд” мой давно ушел, и я старалась с этим смириться. Уж если бедной и замечательной Вивьен Ли не было работы, какой ей хотелось, да еще не будучи в таком возрасте, как я, — то о чем говорить?
… Я ее оплакиваю, как в свое время Цибульского, — есть такие судьбы, которые почему-то что-то в тебе задевают за живое.
Жаль, бесконечно жаль…»[262]
Можно сказать: бесконечно жаль Бабанову, которая долгие годы ничего не играла. Всегда жаль тех сил и возможностей, которые пропадают втуне, перегорают, как молоко в груди кормящей матери, которой не дают ее ребенка.
… А между тем на сцене Театра имени Маяковского шла одна из лучших пьес замечательного американского драматурга, поклонника Чехова, Теннесси Уильямса «Трамвай “Желание”», где молодая актриса играла несравненную роль Бланш, которая должна была бы заставить Марию Ивановну облиться горькими слезами об ушедшей молодости и несостоявшейся счастливой встрече. Так точно, как не досталось Марии Ивановне сыграть в молодости детей Достоевского, она сама пропустила в старости смешных, страшноватых и пронзительно трогательных, доживших до седин вечных девочек из пьес Уильямса. Не догадалась, что надо немедленно, сейчас же брать пьесы этого писателя и играть где угодно — в театре, на радио, на телевидении…
Зато с Достоевским Марии Ивановне все же довелось встретиться на сцене Дело было к его юбилею, и в 1971 году, после огромного перерыва в настоящей работе, она, как всегда с сомнениями и страхом, решилась сыграть «Дядюшкин сон». Театральная Москва стала уже забывать, что это был один из самых {326} репертуарных спектаклей МХАТа с Хмелевым в роли составленного из протезов Князя и победительной Книппер-Чеховой — Москалевой.
Ставить пригласили М. О. Кнебель: когда-то во МХАТе она играла Карпухину.
Роль была «гастрольная». Первое, что испугало Бабанову, была громадина навалившегося на нее многословного, захлебывающегося текста Достоевского. Так же, как некогда Шекспир, он подавлял ее своей массой. Нужно было время и время, нужна была публика, чтобы он мог улечься и стать «своим». Второе, как всегда, костюмы, парики — внешность.
И как всегда, она сразу взяла темп и ритм, за которым с трудом угонялись молодые партнеры и режиссер. Ей было семьдесят лет.
Может быть, Мария Осиповна Кнебель напишет, как она репетировала с Бабановой. Я помню, как сразу пришел в движение, изменился и перестроился в боевые порядки весь уклад бабановского дома. Чтобы жить, Марии Ивановне надо работать; но чтобы работать, она готова жить.
Я видела, как работает Мария Ивановна. Деньги, слава, тщеславие здесь ни при чем. То, что могла, она давно получила, а то, чего недополучила, мало могло бы прибавить ей теперь. Меньше всего она хочет напомнить о себе, скорее наоборот: это ее как раз и пугает. Просто она родилась актрисой. Лицедейство в самом точном смысле — действие от чужого лица, чужой жизни — форма ее существования, потребность. Артист милостью божией — посланник детства в нашей озабоченной взрослой жизни. Он сохраняет навеки ту прекрасную потребность в игре, которая когда-то учила нас жизни и, наверное, в значительной степени сделала человека человеком. Homo ludens — человек играющий — вот кто такой Актер с большой буквы.
Самое удивительное, что в буффонно-трагической роли Марьи Александровны Москалевой — этого уездного Наполеона в юбке — Бабанова сыграла не только и не столько стяжательницу, хамку или полководца своих интриг, сколько ту девочку с обойденной счастьем душой, которую не доиграла в молодые годы. {328} Сыграла, ничем не пожертвовав из смысла роли и ничем не поступившись из своего мастерства. Это особенно было видно рядом с размашистой, обобщенной по-современному и по-современному достоверной манерой Н. Вилькиной в роли Зины.
Здесь я позволю себе привести отрывки из собственного описания игры Бабановой, сделанного по свежим следам спектакля.
«… Когда занавес приподнимается и в бонбоньерочную прихожую заглядывает Бабанова, кажется, что это появилась французская кукла с фарфоровым личиком, синими-синими глазами, с фарфоровыми ручками в кружевах и неправдоподобно мелодичным колокольчиком внутри. Да и кому еще понадобилось бы отгораживаться от мордасовской дичи этими шелковыми стегаными стенами, создавать себе посреди холодного черного мира, где под окнами бродят коровы, опрокидываются кареты с князьями, где взламывают шкатулки и крадут письма, поэты умирают в чахотке, а полковницы дуют водку, этот душный уют, где и присесть-то толком негде, а все какое-то кукольное.
Бабанова не играет Марью Александровну сентиментально или драматично — боже сохрани. В ней есть та цепкая практичность, с какой она вслушивается в восторженный и бессвязный лепет Мозглякова о Князе, о его богатстве и слабоумии. Видно, как в фарфоровой головке, склоненной на фарфоровую ручку, вертятся какие-то хитрые колесики, вспыхивает фантастический план выдать Зину за Князя.
План ее рождается как-то вдруг, как бы блеснув ей в глаза лучом надежды. Рождается скорее от безвыходности: перевернулась карета, и вдруг исполнится {329} детская сумасшедшая мечта — Альгамбра, мирты, лимоны, Гвадалквивир, а главное, куда-нибудь бы подальше от этого Мордасова…
Тот, кто помнит Бабанову по ее прежним ролям, отметит существенно новое: она вовсе не такая французская кукла, как может показаться с первого взгляда, и порядочно “омордасилась” в этом спектакле. Особенно когда появляется привезенный откуда-то совсем из Подмордасья эдакой деревенской распустехой верзила муж. Марья Александровна живо вскакивает на скамеечку, чтобы дотянуться до его глупой рожи, и видно, что фарфоровым ручкам вовсе не чужда идея хорошей мордасовской трепки или оплеухи. Она неподражаемо мешает “аллегорию” с “болваном”, и в ее серебряных колокольчиках проскальзывают вполне вульгарные нотки.
Но, будучи несомненно первой дамой Мордасова — а такая Марья Александровна вполне могла бы быть первой дамой и в каком-нибудь “самом высшем обществе”, — она в то же время не хозяйка ни в Мордасове, ни даже в собственном своем доме.
Планы Марьи Александровны — Бабановой с самого начала эфемерны, хрупки, ненадежны. Они ненадежны именно оттого, что она слишком уж умна для этого города, слишком для него изысканна, слишком поэт…
Бабанова — поэт, как сказали бы мы теперь, “эскапистского” толка. Все эти “мирты, лимоны, Альгамбра, Гвадалквивир” переливаются у нее в горле, как разноцветные стеклышки пересыпаются в детском калейдоскопе, как прихотливый обрывочек “Лирондели”, который виртуозно она напевает Князю. Ее “Испания” — инфантильна, это какая-то неизжитая девочкина сказка…
{330} У Бабановой среди каскада ее виртуознейших интонаций есть две, пожалуй, ключевые для роли.
Одна — когда, ослепив блеском своей поэтической фантазии Мозглякова и выпроваживая его из дому, она грозит пальчиком: “И нерасчетливо, мой друг, нерасчетливо!” В этом переливчатом “нерасчетливо” расчетливость такая хитрая и тонкая, что она сама оборачивается самой нерасчетливой поэтической фантазией Марьи Александровны. Это она, а не Князь, видит наяву “очаровательный сон”. И вторая — уже после реальной встречи со “всем Мордасовом”, который подступает и подпирает из всех щелей, сеней, лесенок.