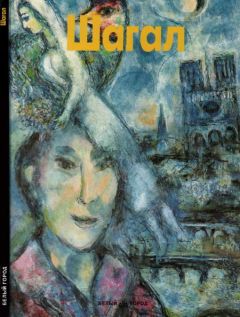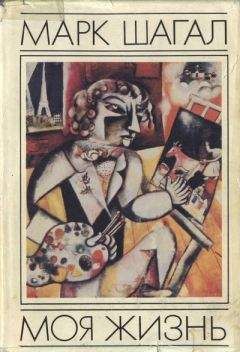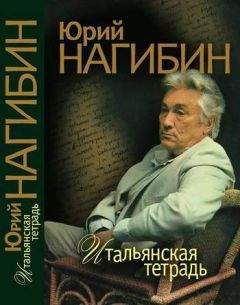Борис Львов-Анохин - Галина Уланова
Можно ли говорить о «выразительности» ступни, о пластике кисти?
Станиславский по этому поводу писал: «Ступни и пальцы ног в танцах очень красноречивы и выразительны… Скользя по полу при разных па, точно острием пера по бумаге, они выводят самые замысловатые рисунки. Пальцы ног при „пуантах“ дают впечатление полета. Они умеряют толчки, дают плавность, помогают грации, отчеканивают ритмы и акценты танца…
С кистями и пальцами рук в балетном искусстве, по-моему, дело обстоит несколько хуже. Я не люблю пластику кистей у танцовщиц. Она манерна, условна и сентиментальна; в ней больше красивости, чем красоты. Многие же балерины танцуют с мертвыми, неподвижными или напряженными от натуги кистями рук».
Действительно, ступни и пальцы ног у Улановой в танцах красноречивы и выразительны. С неповторимым изяществом она исполняет все движения на пальцах, мелкие заноски, па-де-бурре, антраша катр, антраша труа, бризе, купе и т. п. Танцуя на пуантах, она действительно «точно острием пера по бумаге» рисует четкий и тонкий узор, не допуская ни единой «помарки». Но и в пластике кистей у Улановой совсем нет той манерности, условности и напряжения, о которых говорил Станиславский. Движения ее рук естественны, чутки, они всегда как бы излучают волю и мысль.
Глубокое впечатление оставляет игра ее плеч в Джульетте, например, когда они вздымаются будто от сдерживаемых рыданий или сгибаются под тяжестью горя. В сцене принятия снадобья Лоренцо движения плеч Джульетты — Улановой сначала создают впечатление мучительного, бурного, прерывистого дыхания, затем они внезапно опускаются, словно на них легла чья-то невидимая, тяжелая и властная рука, как будто холод напитка мгновенно сковал ее тело.
Уланова иногда позволяет себе на мгновение в чем-то нарушить привычные балетные каноны и правила — робко втянуть голову в плечи, чуть ссутулиться, словно под тяжестью горя, стоять вне канонической балетной позиции, — эти моменты придают особую жизненность ее поведению на сцене, создают впечатление девичьей, юной угловатости, непосредственности. Но, конечно, Уланова пользуется этим приемом с величайшей осторожностью и тактом, так, чтобы это не нарушило общий рисунок и красоту танца. Она может позволить себе это именно потому, что мало кто из балерин так бережно относится к хореографическому тексту своих партий, к мельчайшим особенностям стиля танцевального рисунка. В этом смысле Улановой свойственна необычайная тщательность, как говорят в балете — «аккуратность», скрупулезность великой актрисы.
Уланова не допускает ни одного смазанного движения, ничего не «проговаривает скороговоркой», добивается абсолютной законченности каждого, самого мельчайшего штриха в хореографическом рисунке. Причем надо сказать, что при абсолютной точности, почти «инструментальной» чистоте техники Уланова ни на секунду не выходит из образа, не упускает ни одного психологического нюанса, всегда сохраняет настроение танца, наполняет его богатством различных оттенков, состояний и чувств. И в моментах неподвижности, статики Уланова не менее выразительна, чем во время динамического танца, ее задумчивые остановки, позы так же красноречивы, как паузы у драматического актера.
Разве можно забыть ее фигуру и лицо в статичном «триптихе» пролога «Ромео и Джульетты», ее паузы в сцене смерти из «Бахчисарайского фонтана», позу упавшей в беспамятстве Жизели! Недаром один американский критик писал, что в статичных моментах, как, например, в начальной позе «Шопепианы», кажется, будто ее голову окружает сияние.
В партии балерины есть так называемые хореографические «белые пятна», «пустые места» — кусочки в несколько тактов, когда балерина в адажио идет к партнеру или к месту, откуда начнется вариация. У Улановой никогда не бывает таких «пустых», «белых» мест не только потому, что она ни на секунду не выходит из образа, что вы никогда не увидите в ней балерины, которая готовится к танцу или отдыхает после него, но и потому, что она умеет простому ходу, шагу, пробегу придать стиль танца, который только что исполнялся или будет исполняться ею. Вот почему улановский шаг и бег обретают характер самого образного, захватывающего танца.
Уланова добивается филигранной отделки и всех пантомимических моментов роли. Английский критик Айрис Морли писала: «Когда Жизель, потерявшая рассудок, разрывает воображаемый цветок, то мы буквально видим, как невидимые лепестки слетают у нее с пальцев и падают на землю».
Пластическая гармония великой танцовщицы у Улановой сочетается с деталями тончайшей драматической актрисы. Она всегда ищет их, зная, что «есть в искусстве какая-то тайна штриха, единственно верной детали, которая неожиданно дает свет и смысл целому. В одном кратком мгновении является вдруг все, что составляет ведущую мысль того или иного художественного решения»[6].
Пантомима Улановой, все действия, которые она совершает на сцене, насквозь танцевальны. Накрывает ли она на стол или гадает, обрывая лепестки ромашки в «Жизели», вытирает ли пыль в «Золушке» и т. п. — во всех этих эпизодах у нее нет ни одного движения, которое казалось бы чужеродным природе балетного искусства, не было бы подчинено музыке.
Уланова любит в своих партиях кусочки простых действий, потому что они помогают ей ощутить правду происходящего на сцене, позволяют найти что-то новое, вновь обрести свежесть импровизационного самочувствия, которое необходимо для подлинной жизни в образе.
Уланова вспоминает, как еще в юности она любила второй акт в балете «Ледяная дева» на музыку Грига. Там был живой эпизод встречи Сольвейг с Асаком и сцена свадьбы, где приходилось совершать самые простые действия — бегать по хозяйству, хлопотать, угощать гостей, кого-то встречать, усаживать и т. п. Все это давало покой, ощущение правды жизни на сцене.
С таким же удовольствием играет Уланова в первом акте «Бахчисарайского фонтана», добиваясь жизненности поведения Марии — юной хозяйки замка, — она приветствует гостей, обходит их круг, обращаясь то к одному, то к другому, кому-то кланяется, перешептывается с подругами, поднимает кубок, и во всех этих действиях актриса всегда стремится найти что-то свежее, радуется каждому новому штриху и подробности, так как это позволяет по-новому ощутить десятки раз сыгранную роль, избавиться от скучной заученности рисунка.
У Улановой нет никакого разрыва между пантомимой и танцем, переход от одного к другому естествен и незаметен. Причем надо сказать, что Уланова мимирует, может быть, даже меньше, чем другие актеры балета, мимическая партитура ее ролей строго сочетается и соразмеряется с выразительностью всего тела, танца, одно дополняет другое, сливаясь в неразрывное целое. Опять-таки здесь сказывается чувство меры, гармонии, не допускающее никаких излишеств, никакого «перевеса» одних средств выразительности за счет других.
Уланова строит роль на основе «математически» точного ощущения природы музыки, хореографии, режиссуры, партнеров, то есть всех компонентов спектакля. Для нее все это взаимосвязано, все имеет значение, определяя те или иные черты образа. Удивительно тонко чувствует Уланова режиссуру спектакля, его режиссерский план, композицию. Недаром в таких партиях, как Мария или Корали, где обычная балерина выглядела бы безликой и бесцветной, Уланова одерживала одни из самых значительных побед.
Она всегда создает продуманную композицию роли, логика ее творческого замысла всегда очень ясна. Много пишут и говорят об обобщенности улановских образов. Интересно отметить, что она часто ведет роль от предельной жизненной конкретности к высокому философскому обобщению.
В первых эпизодах спектакля она находит множество точнейших деталей, создающих ощущение бесспорной жизненной правды.
Неподражаемая «игра» с цветком, с ожерельем, со шлейфом знатной дамы в «Жизели», очаровательная хлопотливость Золушки, повадки элегантной актрисы Корали — все это постепенно как бы отбрасывается, отходит на второй план, и уже только строгие линии танца раскрывают самое существо, философский смысл роли.
В первых сценах балета Уланова находит массу разнообразных штрихов, подробностей: ее Джульетта забавно шалит с кормилицей, «бомбардирует» ее подушками, кокетливо оправляет платье, деловито разбирает подаренные цветы; в танце с Парисом у нее множество красок — детская важность, веселое лукавство, чопорность. Но вот она взглянула в лицо Ромео, и сразу исчезает все это, уходят характерные черточки ребячливой резвости, остается одно — поглощенность великим чувством любви. Эта встреча четко определяет «водораздел» роли, уходят все бытовые, юмористические, жанровые подробности, образ устремляется к обобщениям высокой поэзии, все подчиняется звучанию единой, главной мелодии.