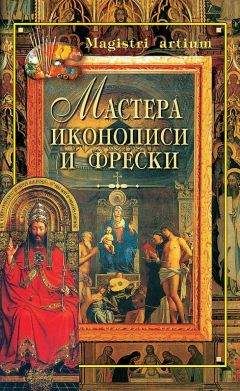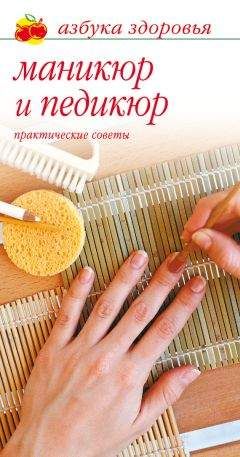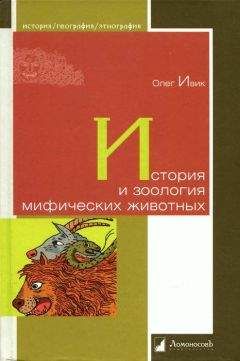Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
Снова менялось время. Близился знаменательный и для искусства XX съезд партии.
Впереди были новые театры, и первый из них «Современник», который начнется еще как студия пьесой не слишком задачливого бабановского ученика, {304} зато удачливого драматурга Виктора Розова — «Вечно живые». Быть может, автор, сам о том не задумываясь, пытался передать в мило-нелогичном и странно-честном характере своей Вероники — обманувшей, не дождавшейся жениха девочки-«белочки» — то очарование, которое он некогда испытывал, смотря из-за кулис в сотый раз игру Бабановой или утешая в пустом классе рыдающего «художественного руководителя» своего курса. Но играть в пьесе предстояло другим.
Там и сям появился в анонсах шекспировский «Гамлет». Тот самый «Гамлет», которого все и всегда собирались ставить, но время для которого пришло только теперь.
Можно написать целое исследование о неосуществленных «Гамлетах» нашей сцены — от замыслов Мейерхольда до репетиций Немировича-Данченко. Охлопков не составлял исключения — с идеей «Гамлета» он носился давно. Еще в 1948 году в очаровательно витиеватых письмах переводчика «Собаки на сене» Лозинского к Марии Ивановне «Гамлет» упоминается как давнишний проект, а в 1950‑м в «Кратком каталоге Лозинского арсенала», который он прислал ей в очередном письме, против «Гамлета» стоит: «Потерпел крушение в море Охлопкова».
Когда-то казалось, что принца Гамлета играть некому — теперь оказалось, что играть могут все. Время пришло, и «Гамлет» был поставлен. Не как шедевр мирового театра, а как самая нужная, современная пьеса. Он был поставлен в защиту отвергнутой рефлексии; в защиту «налета мысли бледной», предваряющей действие; в защиту до времени скрытой правды; в защиту человеческих связей — семейных, любовных, естественных; в защиту сомнения и даже отрицания; в защиту духа критики — и многого еще другого. «Гамлет» был исторически необходим, и Охлопков оказался тем удачником, который первым поставил его на московской сцене. Увы, на этом празднике театра Марию Ивановну ожидала одна из самых тяжелых артистических травм.
Что бы ни думала об этом сама актриса, есть что-то даже трогательное в том суеверном упорстве, с которым Охлопков хватался за имя Бабановой в {305} решающие, поворотные моменты своей режиссерской судьбы. Каждый раз, когда на карту ставилась репутация театра, он вспоминал о Бабановой. У него не было подходящего актера на роль Гамлета — пришлось назначить «социального героя» Самойлова; не было ни достаточно сильного Клавдия, ни Гертруды. Зато на роль Офелии он назначил Бабанову.
Мария Ивановна была в панике; тем более что королеву Гертруду Охлопков дал не слишком одаренной, но молодой, очень красивой Григорьевой. Он вдохновенно ваял образ грешной королевы из ее мраморных плеч, высокой шеи и прекрасного лица греческой статуи. Марии Ивановне было за пятьдесят, и, как бы хорошо она ни выглядела, выйти на сцену рядом с этой подлинной молодостью казалось немыслимо. Но это могло быть очевидно кому угодно, кроме Охлопкова.
Это странное, можно сказать, общечеловеческое свойство романтиков. Наши сверстники старятся вместе с нами, но в глубине души мы сохраняем их облик таким, каким он явился нам когда-то.
Режиссер, давно уже одержимый «Гамлетом», не хотел помнить совсем недавней травмы, которую он нанес Марии Ивановне в «Молодой гвардии». «Очами души» он опять видел золотоволосую Стеллу своей юности, которая легко взлетала по деревянным конструкциям «Рогоносца» и которую он — молодой, долговязый Волопас — торжествующе уносил на своем плече.
Но Мария Ивановна смотрела в зеркало не «очами души», а трезвым взглядом уже немолодой и вовсе не снисходительной к себе актрисы.
Из рассказа М. И. Бабановой
«Он всегда заставлял играть то, что я не хотела, трактовать так, как я бы не могла трактовать. То есть насилие над душой актерской такое, что я без ужаса не могу вспомнить.
Девять раз я приходила и просила освободить меня от Офелии, и плакала — ну ладно, я не трагическая актриса, ну пусть. Но нельзя в пятьдесят лет играть Офелию, нельзя…
Он сказал: “Ты мне сделай роль, а потом я отпущу тебя и пущу молодую девчонку”. Никаких “Мусь” и “Коль” у нас, конечно, не было обычно, но тут он на “ты”: ты мне только сделай ее, и я тебя отпущу.
Ну я и вышла, как идиотка, причем у меня еще было воспаление тройничного нерва, это дикая боль, я ходила завязанная до самой генеральной. Он не верил, думал, что я играю на этом. Кое‑как сыграла…»
Разумеется, никакого «кое-как» и в помине не было. Была, как всегда, жестокая работа, несмотря на воспаление тройничного нерва, отчаяние и ясное понимание нелепости происходящего. Мария Ивановна трудилась, как крепостная кружевница или вышивальщица, которая, накалывая пальцы и портя глаза, делает наряд для другой. Сохранилась переписка с Лозинским по поводу песенок Офелии на подлинную, старинную, дошекспировскую музыку народных баллад, приведенную в знаменитом английском издании «Furness». Все было, как всегда; Бабанова работала на совесть. То, как она сыграла — всего, кажется, три раза, — было замечательной победой над возрастом, над трудностями этой труднейшей роли, но несколько в стороне от остального спектакля. Задача, стоявшая перед Марией Ивановной, была настолько мучительна сама по себе, что поглощала ее усилия целиком, ее игра была чем-то вроде режиссерского показа Офелии — безупречного и немного дидактического.
{306} Такой — особенной и отчужденной — она прошла через спектакль, как через ярмарочную площадь, ни на секунду с ним не слившись и выпав из тогдашнего актуального и «концептуального» восприятия пьесы. Сцена безумия, когда она, подобно шекспировскому Пэку, летела, почти оторвавшись от земли, с голубым воздушным шарфом, играющим за плечами, а потом вдруг на мгновение тяжело, мучительно останавливалась и шарф оседал, как несработавший парашют, — вся эта тончайшая игра алогизмов — кружений и внезапных остановок ее тщетно пробивающейся к чему-то достоверному мысли — не могла быть по достоинству оценена нами в пору иных, гражданственных страстей, взбудораженных «Гамлетом». Эта сцена обнаружила в Бабановой еще и актрису для малоизвестного нам тогда новейшего западного репертуара, и я бы дорого дала, чтобы заново увидеть ее теперь.
Масштаб исполнения — его плотность, весомость его легкости и воздушности — стал очевиден только тогда, когда Бабанова ушла из «Гамлета» и на месте Офелии в мишурной ткани спектакля образовалась едва заштопанная дыра.
Из письма по поводу Офелии
«Дорогая Мария Ивановна!
Вчера я смотрела второй раз “Гамлета” и не могу передать Вам, до какой степени я огорчилась, увидев в нем другую, не Вашу Офелию.
… Я знаю (все театральные люди знают), как Вы требовательны к себе, как мучительно и горько переживаете каждую премьеру. И мне страшно подумать, что Ваше вчерашнее отсутствие в спектакле — не случайность, что кто-то неосторожным словом ранил Вашу чувствительную душу…
Мы сегодня так мало избалованы настоящим мастерством, что перестаем быть восприимчивыми к нему, перестаем отличать бриллиант от подделки. Только глядя на Анисимову, я до конца поняла, каких глубин касаетесь Вы в этой роли. Там, где, казалось мне, Вы не играли ничего (в этом и заключается высшая мудрость искусства — ничего не играть), я вижу теперь множество таких захватывающих деталей, до которых весьма редко поднимается наш театр.
… И когда нам показывают со сцены такое существо, такую душу — должны замолкнуть все дурные языки, если даже они существуют…»
Это письмо критика З. Владимировой датировано 4 января 1955 года.
Спектакль увидел свет 16 декабря 1954‑го, и, стало быть, двух недель было достаточно, чтобы Мария Ивановна распрощалась с ролью, которая досталась ей так дорого. Увы, дело было не в «дурных языках» или не только в них. Невыносимо для Бабановой было не то или иное отношение к ее праву играть Офелию, то есть к вопросу постороннему и искусству и Офелии. Невыносимо было само внимание к тому, что Б. Львов-Анохин назовет «право мастеров». Так он озаглавит свою статью, которую начнет с похвалы бабановской Офелии[247]. Для нее театр не был «правом» — он был жизнью.
Но имя Бабановой еще раз стало предметом околотеатральных пересудов. Конечно же, ни в чем дурном никто Марию Ивановну не подозревал — ее артистическая честность была вне подозрений. Статья Львова-Анохина была проникнута пиететом и рыцарственностью по отношению к актрисе. Но и эта деликатная защита всколыхнула в душе бывшей Муси Бабановой все незаслуженные и незабытые обиды, все ее душевные травмы.
{307} Из письма М. И. Бабановой
«Дорогой Борис Александрович!
На одном из спектаклей в г. Виннице мне кто-то из актеров принес газету “Советская культура” с Вашей статьей.