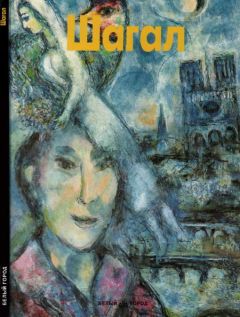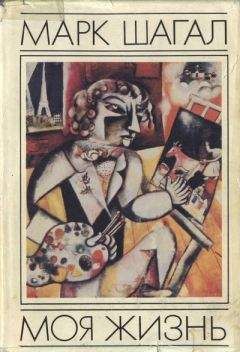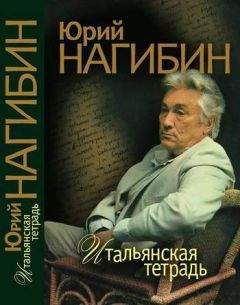Борис Львов-Анохин - Галина Уланова
Существует документальный фильм, в который вошли эти материалы. Единственной, но зато необычайно упорной противницей создания этого фильма была Уланова. Она долго и упрямо доказывала, что ничего не выйдет, что эти кадры неинтересны, никому не нужны, несовершенны с кинематографической точки зрения, что их надо спрятать и никому не показывать, что невозможно добиться синхронного соединения неозвученной ленты с музыкой и т. п.
В конце концов фильм все-таки был создан, но и он только эхо, слабый отзвук того, что называется искусством Улановой.
Как воспринимает Уланова выпавшую на ее долю славу?
Мне кажется, только как нечто налагающее огромную ответственность. Чем больше и громче становилась ее слава, тем напряженнее и труднее делалась ее жизнь в искусстве, тем сильнее росло в ней чувство ответственности, ощущение обязанности сделать все как можно лучше, до предела отточить свое умение, мастерство. Все знаки почета и славы очень мало занимают ее, а порой даже кажутся мешающими, отвлекающими от главного, то есть все от той же работы.
Кадры кинохроники запечатлели Уланову на аэродромах во время ее «прилетов» после триумфальных гастролей, в моменты торжественного вручения ей почетных дипломов и наград. Нельзя без улыбки смотреть эти кадры — такой растерянной, неловкой и застенчивой выглядит на них Уланова. Ее засыпают цветами, поздравляют, говорят речи, а она в ответ на все это как-то недоуменно пожимает плечами, растерянно улыбается и, очевидно, с великим трудом «выдавливает» из себя полагающиеся во время подобных торжеств слова.
Уланова рано, очень рано стала известной актрисой. Но это никак не сказывалось на ее облике и манере поведения. Вот как описывают юную балерину ее первые критики и интервьюеры: «В строгом костюме и спортивных на низких каблуках туфлях школьницы она похожа на серьезную девушку, которая не уделяет много времени своей внешности. Кажется, ничего нельзя прибавить к этой простоте».
И теперь в ее облике нет ничего от прославленной знаменитости. Предельно скромный, строгий костюм, бледное лицо, гладко причесанные назад, разделенные пробором волосы.
Но что сразу выделяет Уланову, приковывает к ней внимание, — это удивительная пластичность. Причем опять-таки в ее грации нет ничего искусственного, нарочитого. Уланова обладает редкой природной пластичностью, врожденной, а не только приобретенной в балетных классах грацией. Каждое ее движение абсолютно свободно, непринужденно, естественно. «Нагибаясь за чем-нибудь, оборачиваясь на неожиданный зов, поднимая руку, чтобы достать понадобившийся предмет, она невольно принимает совершенные по пластическому рисунку позы. Свободная простота движений — свойство ее натуры. Уланова всего лишь проходит по репетиционному залу, поливает из лейки пол, а за каждым ее движением невольно следят десятки внимательных глаз»[47].
Первое, затем все более крепнущее впечатление от Улановой — абсолютная простота, ничего «актерского», полная свобода от всякой позы и аффектации. Даже когда разговор касается того, что волнует ее, ей не изменяет сдержанность.
Негромкий голос, спокойные движения, внимательные глаза, пристальный, иногда чуть насмешливый взгляд, редкая, но тем более радующая своей искренностью улыбка — все это оставляет впечатление сосредоточенности, простоты, прямоты. Она не подчеркивает своей приветливости, но в ней нет и тени высокомерия.
Присущий ей юмор начисто избавляет ее от экзальтации и восторженности. С юмором говорит она в «Школе балерины» даже о своей прославленной лиричности. «Как ни юмористически это звучит теперь, но, ей-богу, может быть, славой балерины лирического склада я отчасти обязана своей тогдашней прозаической болезни, я слишком быстро уставала, мне всегда хотелось двигаться возможно менее порывисто и резко, я редко улыбалась, мало бегала и прыгала. Кроме того, от природы я была очень застенчива. Вот так, быть может, и выработалась мягкость движений и линий, которые мне не раз ставили в заслугу и начало которых (как знать?) было вовсе не во мне, а в том, что привело меня в Ессентуки» [48].
Этот полушутливый рассказ очень характерен для Улановой.
Уланова может показаться слишком замкнутой, даже непроницаемой. Так много вкладывает она в свое творчество, так велик ее повседневный труд, что бывает необходимым иногда отгородиться от ненужных впечатлений, встреч, избежать лишних бесед и утомительной суеты. Не боясь показаться суровой, она решительно избегает всего показного, внешнего в общении с людьми.
Многие репортеры, говорившие с Улановой, часто пишут, что во время беседы она деловито зашивала розовую балетную туфельку. Она невольно подчеркивает деловой, строгий характер разговора, обычно предельно краткого, лишенного каких бы то ни было «лирических излияний».
Никто никогда не видел ее особенно оживленной или бурно рассерженной. Кажется, что ничто не может вывести ее из себя. Загадочная непроницаемость ее внутреннего состояния, этот непоколебимый покой, естественное величие редкого самообладания принимаются некоторыми за равнодушие и сухость. Но это совсем не так. Это следствие ее высокой нравственной дисциплины, силы ее натуры. Она способна к огромной самоотдаче, к полному забвению себя. Бывали случаи, когда она так скрупулезно опекала своих молодых учениц, так следила за каждой мелочью их костюма, грима, что в эти минуты казалась не прославленной актрисой, великой наставницей, а сестрой, подругой, едва ли не заботливой «камеристкой». Она сама поможет приколоть цветок, причесать волосы, подшить пачку, опускается на пол, чтобы завязать ленты туфель своей подопечной, проверить их крепость. Невозможно равнодушно смотреть на нее в эти минуты, видеть, как волнуется она, стоя за кулисами или сидя в ложе, как забывает она себя, свою славу, свое величие, то, что она — Уланова.
Но способность к огромной самоотдаче, самоотвержению, растворению в другом человеке живет в ней вместе со способностью решительного и бесповоротного отвержения. Если она теряет доверие и уважение к человеку, он перестает для нее существовать, ее неприятие бывает абсолютным и безоговорочным. В таких случаях ее замкнутость и холодность становятся непреодолимыми.
Думаю, что вряд ли ошибусь, если скажу, что никто никогда не видел ее плачущей или жалующейся. Свои беды она умеет переносить стоически. Железная воля ведет ее к преодолению очень серьезных трудностей и препятствий. Вот что рассказывает Завадский о сложном периоде ее творческой жизни.
«Однажды весной к Галине Сергеевне приехал один из балетмейстеров Большого театра. Он радостно сообщил, что с осени начинает ставить новый балет Прокофьева… (Речь шла о балете „Золушка“. — Б. Л.-А.)
И все лето Уланова жила мечтой о новой роли, готовилась к встрече с музыкой Прокофьева…
И вот пришла осень.
Снова приехал к Улановой все тот же балетмейстер, но на этот раз был смущен. Он сообщил Галине Сергеевне, что „по производственным соображениям“ руководство театра решило новую партию поручить другой балерине… Конечно, Галина Сергеевна может работать второй исполнительницей.
Уланова внешне спокойно приняла это известие. Она никогда не показывает, что происходит у нее в душе. И начала работать со своим партнером Вл. Преображенским в самое неудобное для нее, как и для всякой балерины, время — между тремя и семью часами (тогда, когда репетиционный зал свободен от занятий). Она заглядывает на репетиции нового балета, стремится понять замысел постановщика. Но она не со всем согласна, сама придумывает героине костюм, прическу, повадки. И — продолжает работу…
Приходит время репетиций на сцене. Улановой предлагают одну оркестровую репетицию… И тут выясняется, насколько интересно и свежо задуман Улановой образ, как тонко раскрывает она в танце музыку Прокофьева. И многое из того, что было ею найдено, навсегда вошло в спектакль»[49].
16 мая 1928 года Уланова на сцене Кировского театра танцевала свой выпускной спектакль — «Шопениану» М. Фокина. Все присутствовавшие в зале знали, что этот спектакль — начало артистического пути юной балерины.
29 декабря 1960 года Уланова тоже танцевала «Шопениану», и никто не знал (об этом не было объявлено), что это ее последний спектакль на сцене Большого театра. Между этими двумя «Шопенианами» — целая эпоха в истории хореографии, ее золотая страница, прекрасная жизнь в искусстве, жизнь в танце.
Трудно писать об искусстве Улановой сдержанно, и сколько бы восторженных слов я ни вычеркивал из этой книги, чувствую, что в ней остались эпитеты, которые могут заставить ее недовольно поморщиться, показаться ей слишком патетичными.
Я говорю обо всем этом не для того, чтобы удовлетворить чье-то любопытство к личности Улановой, а для того, чтобы еще раз на ее примере подтвердить известную истину о том, что великое искусство всегда рождается на почве человечности, благородства, что только тот может стать большим Артистом, кто воспитал в себе черты настоящего Человека.