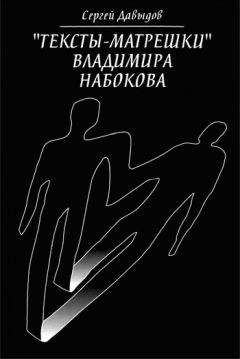Сергей Марков - Михаил Ульянов
— Благодаря „Тевье“? Некие флюиды дружбы исходили от той работы — если уж про ауру упомянули. Снимал, кстати, фильм режиссёр Сергей Евлахов, однокашник Михаила Александровича, один из двух истинных его друзей…
— И это, конечно, чувствовалось, передавалось. А Ульянов — действительно, можно было только мечтать о таком партнёре! Это такой глаз, на тебя направленный!.. Он-то уже был народный СССР, Герой, лауреат и так далее. А я вовсе не была ни в каком звёздном статусе. Но для него это было совсем неважно! Он относился к человеку, к артисту с невероятным уважением — и к профессии, и к личности твоей… Его, ульяновская, необыкновенная доброта, неравнодушие видны на экране, это и играть ему не надо было. Конечно, бывали у нас перерывы в съёмках, мы много говорили — о жизни, о театре, о детях… Они, Ульяновы, Михаил Александрович, Алла и маленькая ещё Ленка, ни одной премьеры у нас в „Современнике“, ни одного капустника или праздника не пропускали. То есть связь, душевная, творческая, даже телепатическая всегда между нами была, несмотря на то, что работали в разных театрах. К сожалению, больше нам не удалось быть партнёрами ни в кино, ни в театре. Другие времена наступили, он сам возглавил театр…
— К его деятельности на посту руководителя Театра Вахтангова отношение было, мягко говоря, неоднозначным. Вы, Галина Борисовна, уже много лет возглавляете театр „Современник“. Интересно, каково ваше — как коллеги — видение, ваше отношение к Ульянову — художественному руководителю?
— Он выискивал, приглашал молодых и немолодых разных режиссёров, экспериментировал, рисковал — может быть, многие ему это в вину ставят, но это не вина, а колоссальное достоинство, я-то понимаю, что он таким образом продлевал жизнь Театру Вахтангова! Ведь он, знаменитый, великий, обожающий играть, мог запросто поставить во главу угла собственные актёрские амбиции, приглашать режиссёров лишь для того, чтобы ставили на него, его обслуживали. А он думал о театре… И всё, что хорошего делалось в Союзе театральных деятелей, шло лично от него — я это знаю. Он помогал очень и очень многим людям, старикам, молодёжи! Светлый человек. И вовсе не такой суровый, мрачный, каким хотел порой казаться. Я помню, летела из Америки, из Нью-Йорка. Иностранный продюсер взял мне билет в первый класс, и мы встретились с Михаилом Александровичем в предбаннике, у него был билет в обычный эконом-класс. Мне стало дико неудобно! Я хотела предложить ему своё место, но понимала, что наверняка он откажется. А у него была куча каких-то свертков, пакетов, может быть, Алле что-то вёз, дочке, внучке… Я пошла к девочкам-стюардессам, сказала, что там Ульянов, попросила пересадить его в первый класс, рядом со мной было место. Ну, освободили его от всех этих кульков, которые у него были, как у всех нас, когда мы летали за границу, мы разговорились про жизнь, про Америку. Я спрашиваю: „Миша, а ты на Брайтоне был?“ — „Был“, — говорит. И улыбается. Рассказывает, как оказался там, на Брайтон-Бич, под вечер, почему-то один, то ли его оставили ненадолго, то ли сам решил пройтись… А для них „Тевье-молочник“ — это всё, любовь навсегда! И очень смешно, с типично одесско-брайтоновским таким акцентом Миша мне рассказывает, как подходит к нему пожилой человек, бывший наш, и говорит: „Ульянов?“ — „Да“, — отвечает Миша. „На съёмки?“ — „Нет“. — „На гастроли?!“ — „Тоже нет“. — „Насовсем?!“ — закричал тот с ужасом и восторгом одновременно. Потому что легче было предположить, что континенты сойдутся, небо рухнет, чем то, что Ульянов эмигрирует… Очень мы с ним хохотали в самолёте.
А вообще Михаил Александрович Ульянов — это планета на небосклоне, совсем немного было таких планет, но они, к великому счастью, в нашей жизни были. И Ульянов — одна из самых ярких, замечательных планет! От которой еще долго будет идти свет (к слову, в честь 75-летия Ульянова его именем была названа звезда. — С. М.). Я часто его вспоминаю. Его лицо, его глаза, его смех…»
— …А наша картина «Мастер и Маргарита» могла бы быть интересной ещё и тем, — рассказывал Ульянов в своём последнем интервью, — что режиссёру Юрию Каре удалось собрать блистательных артистов: Филиппенко, Павлов, Стеклов, Бурляев, Анастасия Вертинская, Гафт, Куравлёв… Я не всех перечислил… Будет жаль, если никогда никому так и не удастся картину увидеть.
— А как вам телевизионный фильм, в котором Пилата сыграл Кирилл Лавров?
— Ты же знаешь, мы с Кириллом братья — ещё со времён съёмок в «Братьях Карамазовых» так называем друг друга: «брат Иван», «брат Дмитрий»…
— Вы не ревновали? Тот фильм показали, а ваш — нет. Из-за каких-то споров с иностранными инвесторами, я слышал.
— Знаешь, я себе плохо представляю артиста, которому не знакомо чувство ревности. Вот «Наполеон Первый», например. Эфрос ведь всё время хотел восстановить спектакль уже на сцене Театра на Таганке, когда Любимов уехал и Анатолий Васильевич стал там главным режиссёром. Всё говорил: «Вот сейчас я поставлю „На дне“, а потом…» Потом так никогда и не наступило — потом он умер. И вот уже в девяностые годы по настоянию актрисы Ольги Яковлевой наш спектакль восстановили на сцене Театра имени Маяковского. Дело в том, что одна из режиссёров Театра на Малой Бронной, работавшая с Эфросом, записывала со стенографической точностью все репетиции, все его замечания и до мелочей, до подробностей всю структуру спектакля. По этой стенограмме она и восстановила спектакль, декорации, костюмы — всё…
— Но это же плагиат, воровство!
— Можно как угодно называть. Я ревновал. Наполеона в восстановленном спектакле играл актёр Театра имени Маяковского Михаил Филиппов. Но все мизансцены, которые играл Филиппов, все без исключения были придуманы, сочинены, наработаны в нашем спектакле.
— Не только Эфросом, но и лично вами?
— В том числе и мной. Поэтому, конечно, я ревную.
— Интересно, а много было в вашей жизни кинопроб, не вылившихся в фильмы? Когда не утверждали вас на роль.
— Пробовался на роль Харламова в фильме «Белорусский вокзал», на Григория Распутина, сравнительно недавно предлагали в фильме «Ночной дозор» роль светлого мага сыграть… Бывало, как у всякого актёра. Но что об этом говорить? Ныть, жаловаться…
— Но это же унизительно.
— В жизни многое унизительно.
— Я читал в воспоминаниях, что Высоцкий, например, дико переживал многочисленные свои неутверждения, запивал… И Олег Даль… И может быть, это тоже приблизило их ранние смерти.
— Посмотреть, сколько актёров только за последнее время ушло, — аж страшно становится! Помнишь такую картину «Тема», которую мы с Глебом Панфиловым в Суздале снимали?
— Конечно, помню. Вы там с Инной Чуриковой играли.
— Одна из сцен была на кладбище. Зима стояла, мороз. И вот пока ставили свет, камеру, я бродил по кладбищу, чтобы согреться. Оно уже закрытое было, там никого не хоронили. Ходил, смотрел на фотографии, читал надписи. И вдруг заметил одну закономерность: люди, рождённые во второй половине XIX века, в 1860-м, 1870-м, 1880-м, прожили долго, по восемьдесят пять — девяносто лет. А те, кто появился на свет в 1920-м и позже, очень недолго на этом свете задержались. И это было этаким наглядным пособием для характеристики веков по части милостей их к человеку. Войны, голод, всяческие осложнения социальные: то «заморозки», то «оттепели», то опять «заморозки», всё время жили мы в перенапряжении… Но я тебе подробно обо всём этом рассказывал в том круизе по Средиземному морю, помнишь? Ты меня ещё расспросами о женщинах терзал… Кстати, «Мартовские иды» смотрел?
— Если честно — нет, — признался я.
— Вот так… — вздохнул Михаил Александрович. Помолчали. — А много любви было в спектакле, насыщен был страстью… Стареющий мужчина и молодая красавица Клеопатра, последняя его любовь, которую играла очаровательнейшая наша актриса Марина Есипенко, моя, кстати, землячка, сибирячка из Омска.
— Вы с такой гордостью об этом сообщаете: сибирячка…
— Горжусь, а что ж? Цезарь мой прекрасно понимает: это и последняя зацепка в его жизни, дальше — пропасть, смерть. Смерть подошла к нему вплотную: он уже знает о заговоре Брута и потому имеет возможность остановить заговор, предотвратить или хотя бы отсрочить. Но не делает и попытки. Он сам отдаёт себя на заклание, позволяет себя убить. И в этом огромная драматургическая сила. По сути, Цезарь идёт на самоубийство. Он вот что говорит: «Надо бы напугать этих тираноубийц, но я медлю, не могу решить, что с ними делать. Заговорщиков я подавлял только добротой, большинство из них я уже не раз простил, и они приползали ко мне и из-под складок тоги Помпея целовали мне руку в благодарность за то, что я сохранил им жизнь. Но благодарность быстро скисает в желудке у мелкого человека, и ему невтерпёж её выблевать. Клянусь адом, не знаю, что с ними делать. Да мне, в общем-то, всё равно…» Его единственная и последняя радость — прелестная египтянка, при виде которой он молодеет, распрямляется, она дарит ему напоследок ощущение забвения и счастья… Но и она его предаёт, изменяет с Антонием.