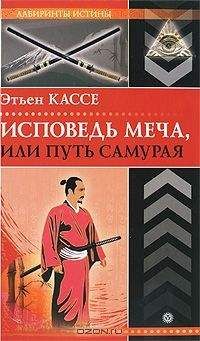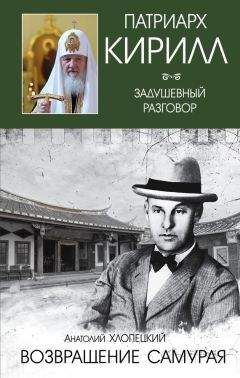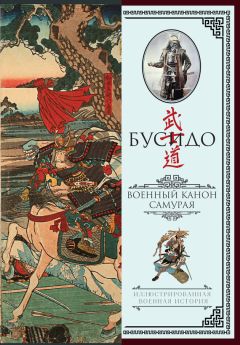Денис Лешков - Партер и карцер. Воспоминания офицера и театрала
Однако приблизительно с 1919 года к театру начали предъявляться требования «идти в ногу» с современностью. А что такое была «современность»? Варварская гражданская война на окраинах с тысячью виселиц и костров и полный голод внутри страны… Эту «современность», что ли, должно было отображать искусство?
Когда кто-то, здраво взвесив обстоятельства, вполне дельно заявил, что «подлинное искусство — аполитично», то надо было слышать, какой поднялся волчий вой и улюлюканье! Аполитичного искусства нам не надо… А кому это «нам»? Это безграмотному зверью, которое расстреливало в Петропавловской крепости тысячи ни в чем не повинных людей и топило целые баржи с «классовым врагом» в виде голодных попов и бывших интеллигентов. Конечно, этому зверью не надо было никакого искусства, а вполне достаточно было фальшивой гармошки и Демьяновых стихов. Разве им мог быть понятен «Китеж» Римского-Корсакова, пейзаж Куинджи или тонкий «Эрос» Фокина — Чайковского. Это аксиома, не подлежавшая сомнению, а наши несчастные театры надувались, как крыловская лягушка, и силились дать культурную пищу влезшему в них (благо — даром) «новому зрителю». Этот «новый зритель», по выражению К. А. Скальковского, смотрел на гениальнейшие образцы, как «корова на проходящий мимо курьерский поезд». Весь 1919 да и 1920 годы были тяжелым периодом «метания бисера перед свиньями». Новых оригинальных произведений ни в драматургии, ни в музыке, ни в хореографии не появлялось, да и не могло появиться, ибо всякое культурное проявление всегда требовало соответствующей окружающей обстановки. Как-то в театре в антракте мне довелось немного говорить с А. К. Глазуновым. На мой вопрос, есть ли у него что-нибудь новое, он грустно ответил: «Нет, вот уже 2 года как ничего… Да разве теперь можно что-нибудь „творить“?»
В конце 1920 года Л. С. Леонтьев и А. Н. Бенуа попытались поставить «Петрушку» Игоря Стравинского. В сущности, это была рабская копия фокинской парижской постановки, чего, впрочем, Леонтьев и не скрывал, но и это уже было действительным геройством. Разучить с голодной труппой при 4-х градусах тепла такую сложную постановку было очень нелегко. Даже оркестру (увы, уже не прежнему) казалась чересчур новой такая смелая композиция, тем не менее 20 ноября премьера состоялась. Само собой, что ¾театра не поняло, да и не могло оценить этого тонкого художественного примитива. Страдания мятущегося по стенкам Петрушки вызывали идиотский смех, а больше всего нравился балаганный дед, ловящий удочкой полуштофы. Музыка зрителям явно мешала, но нравился барабан в чистых переменах.
Новоявленный «на безрыбье» балетмейстер Федор Лопухов все же не мог успокоиться успехом, хотя бы у сотни зрителей, «Петрушки» и принялся «кропать» еще менее популярный и непосильный сюжет — «Жар-птицу» того же Стравинского. Лопухов целый год не стригся, отпустил себе длинные волосы, носился с туго набитым портфелем — партитурой и какими-то руководствами по быту древних славян, рисунками и чертежами придуманных им кунштюков вроде катания на роликах балерины вокруг дерева и появления на авансцене из суфлерской будки черных и белых рыцарей (что уже использовано Лосским в «Салтане»), и, в общем, в следующем 1921 году появилось весьма скучное и нудное зрелище, продолжающееся без перерыва 1 час 20 минут. При этом программа была снабжена таким сумбурным набором слов с целью пояснить навязанную всем известной бесхитростной сказкой «борьбу двух начал — светлого и темного царства» и пр., что зрители недоумевали, храпели от зеленой скуки, а бедные «плененные царевны» вытирали своими животами пол сцены и наивно швырялись картонными позолоченными шариками. «Поганый пляс» Кащеева царства — богатейшая для хореографа тема, которая у Фокина вызывала «жуткие мурашки по телу» зрителей, — здесь пропала в однообразных тырканьях кулаками в воздух и трафаретном просачивании одной линии танцовщиков сквозь другую. Лопухов, видите ли, как огня боялся «подражания кому-либо», а особливо Фокину, которого открыто называл «упадочным интеллигентом», уже сыгравшим свою роль и отошедшим в область предания. Больной эротический мозг Лопухова приводил его к нагло самоуверенным выводам и заключениям. Так, при первом съезде труппы в августе 1922 года я сидел на диванчике на хорах репетиционного зала и слушал его «программную» речь к артистам. Боже, что это скорбный главою человек молол: Мариус Петипа и Лев Иванов — выжившие из ума старики, ставившие для забавы праздной толпы красивые банальные картинки, вроде «Спящей красавицы» и «Лебединого озера», а Чайковский сочинил «антимузыкальный» вальс снежинок в дурацком «Щелкунчике». Балет, мол, требует иных путей и новых откровений (которые он, вероятно, и дает). И ведь не нашлось ни одного человека, который взял бы за шиворот и тряхнул как следует этого оратора. Все слушали молча, как бараны, и лишь потом в «подшефной» пивной на Толмазовом возникли споры о здоровье нового управляющего труппой.
В драме начались постановки графоманического А. В. Луначарского: «Фауст и Город», «Канцлер и слесарь», «Королевский брадобрей», «Яд» и «Бархат и лохмотья». Про последнюю пьесу в Москве сложили не лишенное остроумия четверостишие:
Нарком, сбирая рублики.
Стреляет прямо в цель.
Лохмотья дарит публике,
А бархат — Розенель.
Вся «революционность» этого цикла пьес заключалась по преимуществу в их крайней несценичности, а заключительная мораль могла быть, как нечто предрешенное, с одинаковым успехом выведена в конце первого акта, не растягивая труднопонятное зрелище на пять действий. Потом появились «Огненные мосты», «Воздушные пироги», «Рельсы гудят», «Шахтеры» и прочая бездарь, требующая насильственного внедрения подневольных зрителей, т. е. приводились в театр в строю батальоны красноармейцев или бригады рабочих, которые неистово скучали, разрывая рты от зевков. Та же участь постигла и постановки «Вильгельма Телля» и «Заговора Фиеско», и полный провал в Михайловском театре дурацкой феерии «Иван Козырь и Татьяна Русских». Жаль было артистов, надрывающихся ради всего этого хлама и чувствующих свое бессилие что-либо сделать. Когда от такого коленкорового репертуара в дирекции касса напоминала турецкий барабан, а правительственной субсидии не хватало на выплату зарплаты — тогда возобновляли Островского «Не было ни гроша, <да> вдруг алтын»[125], и действительно алтын в кассе появлялся, ибо пьеса давала 27 рядовых аншлагов, после чего отдыхали еще на «Маскараде».
В опере дело обстояло несколько сложнее. Использовав единственные «революционные» сюжеты — «Фенеллу» и «Риенци»[126], уперлись опять в тупик полного отсутствия сюжетов и принялись за нелепые переделки.
Так, по особому конкурсу были заказаны одновременно переделки поэтической «Тоски»[127] Пуччини на «Борьбу за коммуну», а «Гугенотов» Мейербера на «Декабристов».
Додуматься до таких комбинаций поистине можно было не головой, а «тем местом, откуда ноги растут». Мудрые авторы порешили, что музычка «пущай остается», а «либретту можно подогнать новую». Ни со стилем, ни с настроением, ни с определенной программностью «музычки» никто не считался. Важно было показать мифическую русскую деву на баррикадах с красным флагом и свирепого генерала Галифе. В «Гугенотах» вместо Рауля пел Рылеев, а Варфоломеевскую ночь ничтоже сумняшеся заменили восстанием на Сенатской площади!
Когда эти перлы окончательно рассматривались в каком-то ЛИТО-МУЗО, то пришло известие, будто Д. Пуччини так заинтересовался этой переделкой, что непременно собирался на премьеру, но только вместо того взял да и помер. Тогда будто бы кто-то из «орателей» предложил: «Ну ладно, „Борьбу за коммуну“ дадим, а касаемо „Гигинотей“, товарищи, воздержимся, а то еще, чего доброго, и Мейербер помрет… Скажут еще, что мы здесь удушаем западных авторов…»
Так, по счастью, «Декабристы» и не увидели света рампы, а эта дикая галиматья «В борьбе за коммуну» при насильственном заполнении театра прошла с 10 раз. Бедные певцы, что они переживали… Но вот на помощь явился «композитор» Пащенко со своей оперой «Орлиный бунт». Это примечательное явление в ультрафиолетовой постановке «Христа для бедных» убогого режиссера Раппапорта достойно, как курьез, некоторого внимания.
Музыка, сплошь накраденная, вернее награбленная, представляла любопытную мозаику из 20-ти авторов. Верно, и прежде композиторы, даже первоклассные, тихонько обворовывали друг друга. Но ведь взять чужую тему, искусно обработать ее в другой тональности, при новой гармонизации — это есть ловкое воровство, все-таки нечто скрытое и тайное, «яко тать в нощи». Чтобы открыть такой плагиат, нужны были колоссальная эрудиция и феноменальная музыкальная память, да и то люди приходили к выводу о случайном заимствовании. Музыка — дело темное: вон Шарль Гуно и Шпор почти одновременно писали «Фауста»[128], и ария Маргариты перед храмом оказалась у обоих почти на одну тему — поди докажи, кто у кого свистнул! Чайковский и Глазунов сами себя нещадно обворовывали, т. е. попросту повторялись, но это же не кража. H. Н. Черепнин так скомпоновал свой «Павильон Армиды», что пахнет всеми русскими классиками, но шито не белыми нитками и докопаться до бесспорного плагиата очень трудно. В эпоху русской революции воровство бросили, а стали просто грабить. Это был уже не «тать в нощи», а просто открытый разбой на большой дороге. Начали слизывать просто по 30–40 тактов с чужой партитуры, что, конечно, много проще, чем вымучивать их из себя. Авторская наглость дошла до неслыханных пределов, и то, что показали «композиторы новейшей формации», как Пащенко, Дешевов и Корчмарев, не говоря уж о разных Канкаровичах и мелких эстрадных грабителях, было явлением поистине поучительным. «Сочинение» музыки страшно упростилось; это сделалось просто работой ножниц и клея.