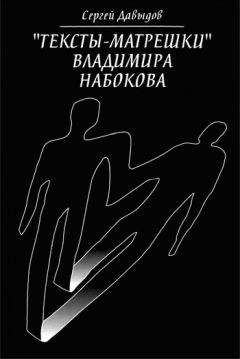Сергей Марков - Михаил Ульянов
Глаза Соловьёва повлажнели. Он долго задумчиво молчал.
— И вот ещё что… Завершая „Булычова“, выпивая, я — водку, он — уже газировку, он и в Костроме в экспедиции ни грамма не выпил, мы поклялись работать вместе. Во мне была такая наивнейшая уверенность в том, что режиссёр что хочет, то и делает, и мы непременно будем работать, а сейчас просто так, разминались, вот впереди!.. Но в следующий раз у меня получилось только через двадцать пять лет пригласить его на „Дом под звёздным небом“. Я специально для него писал сценарий, отнёс ему почитать. Он позвал меня через три дня, сидели у него в кабинете, вот тут на Пушкинской, у письменного стола под лампой. Он говорит: „Серёжа, я ничего в твоём сценарии не понял. Вообще ни одного слова. Но, конечно, я буду сниматься“. И мы с ним очень нежно и хорошо отработали эту картину… Но каждый раз, с ним встречаясь, я говорил: „Михаил Александрович! Давайте поставим в театре, у вас или в каком-нибудь другом, но обязательно с вами в заглавной роли английскую пьесу ‘Человек на все времена’“. Он: „Да это через худсовет надо пробивать, то, сё…“
— А что за пьеса? Я, честно скажу, не читал.
— Я и сам не читал. Просто рассказывал кто-то. Но мне было достаточно названия. Потому что Михаил Александрович Ульянов — это и есть человек на все времена. И теперь уж я не буду читать этой пьесы. Для памяти об Ульянове мне будет достаточно названия».
— …Как не мог ничего изменить и в ходе своей неизлечимой болезни, — повторил Ульянов. — Вот и в фильме Сергея Соловьёва о Башкирцеве — тот же трагизм понимания и бездействия. И вовсе не от страха или слабости бездействие. Но от неумения сопротивляться обстоятельствам.
— Собственно, и «Гамлет» об этом.
— Да, конечно. Но у нас как-то особенно… Может быть, потому что нам, русским, так кажется. А грекам или сербам, скажем, или немцам казалось бы, что у них всё гораздо глубже и трагичнее… Не знаю. Но очевидно, что слишком много насилия пережил наш народ за свою историю. И за дальнюю — при нашествиях, войнах, при крепостном праве. И за ближнюю. Целые поколения народились, равнодушно приемлющие всё, что ни пошлёт раньше партия и правительство, в новые времена, вроде бы, президенты, ничего не решающие и не значащие, то и дело сменяемые правительства и шутовской парламент…
— Вы считаете наш парламент шутовским?
— Ты к словам-то не цепляйся, я это не для публикации… Впрочем, публикуй, если сочтёшь нужным, дело твоё. Петр Великий держал шутов, императрица Анна Иоанновна, у которой в шутах даже Рюриковичи ходили, Голицын, другие… Но о чём мы?
— Вы начали о «Доме под звёздным небом»…
— Да. Там в конце концов во всю эту мистику и жуть, опутавших Башкирцева и его близких, начинает стрелять молодёжь. Просто так стрелять, не очень вроде бы задумываясь и понимая — от лихости. Потом куда-то улетают на воздушном шаре. Но молодёжь сопротивляется! Бунтует! И это обнадёживает…
— Сейчас уже не бунтует. Кто бабло заколачивает, притом немилосердно, кто забивает — косяки и на всё… Но, с вашего позволения, вернёмся в недавнюю историю, в которой вы были, безусловно, личностью. В том понимании, которым оперируют историки и философы, размышляя о роли личности в истории. Расскажите подробнее про Горбачёва. Стопроцентно историческая личность — вроде последнего римского императора, имени которого, правда, теперь уже никто не помнит…
…В преддверии крушения, гибели Советской империи, на исторической XIX партконференции, Ульянов заступился за Горбачёва, подвергшегося яростным нападкам (в основном не за судьбу Отечества, а за то, на чем и Ельцин «поднялся»: за шубы супруги, Раисы Максимовны, — эх, Расея ты, Расея!..). «Коней на переправе не меняют!» — воззвал с кремлёвской трибуны Ульянов, вызвав тем шквал стрел на себя, но это была его позиция.
— …С Горбачёвым мы познакомились, когда только начиналась перестройка, — сказал Ульянов. — Ещё не было крови, разрухи, продажности, разворовывания, а были надежды на лучшее, вдохновение и подъём от ожидания грядущих перемен. За нами тогда, затаив дыхание, следил весь мир. Помню, после XIX партийной конференции, оставшейся в истории благодаря заявлению Ельцина, выступлению главного редактора «Огонька» Коротича с материалами о взяточничестве некоторых членов ЦК партии, многим другим ярким эпизодам, — буквально на другой день я вылетал в Буэнос-Айрес на гастроли. И первое, о чём меня спросили там, уже в аэропорту: «Ну что такое у вас произошло с Горбачёвым?» Имелось в виду несколько резких реплик, брошенных Горбачёвым во время моего выступления на конференции. Я поражён был: у чёрта на куличках, уж и до Антарктиды рукой подать, — а там всё уже знали.
— А что тогда случилось, напомните.
— Всё из-за вашего брата, журналиста. Маленький конфликт и тот наш диалог произошли по поводу прессы. Я настаивал на том, что прессе необходимо дать свободу, мол, пресса — это самостоятельная серьёзная сила, а не задуманная служанка некоторых товарищей, привыкших жить и руководить бесконтрольно. Тут все зашумели, особенно в президиуме: «Ишь ты какой! Свободу?!.» Я же, надеясь, что средства массовой информации вынесут мои слова за пределы Дворца съездов, искренне, с жаром…
— Вы всё, Михаил Александрович, делаете искренне и с жаром, прошу прошения.
— Другим уже не буду. Я обращался тогда к людям: «История приблизилась к нам и с надеждой заглядывает нам в глаза: не ошибись, не струсь, не испугайся, человек! Будь умным. Мы сами должны отстоять и укрепить демократию и народовластие. Другой силы нет…» Так мы выражались тогда — высоким штилем.
— И все, помню, удивились тому, что Горбачёв вам «тычет».
— Это была обычная привычка партработников: «тыкать» всем своим нижестоящим партайгеноссе. Притом от первоначального партийного обычая обращаться друг с другом лишь на «ты», невзирая на возраст и занимаемый пост, осталась лишь одна, именно эта половина — в направлении «сверху вниз»…
— Но вы же были хорошо знакомы, помню, даже целовались при встречах.
— Вероятно, чем-то я был ему интересен, чем-то импонировал… Он одним из первых посмотрел моего «Наполеона Первого» у Эфроса. Был в театре на моём шестидесятилетии — я послал ему приглашение на свой вечер. Я играл фрагменты из старых спектаклей. Найдя подходящий момент, он подошёл, протянул руку, мы расцеловались. После Фороса, как я тебе уже говорил, пришёл к нам смотреть «Мартовские иды». Я после спектакля зашёл к ним с Раисой Максимовной в ложу. Почти час разговаривали. Когда вышли из театра, увидели, что на Арбате его ждёт толпа человек в двести. Потом нам сказали, что поначалу толпа была гигантской…
— Могу подтвердить, своими глазами видел. И в этой толпе далеко не все собирались произносить здравицы в честь Горбачёва — были и желающие плюнуть…
— Были, знаю. Тогда многие разошлись, пока мы разговаривали, а кто дождался, бросились к нему, окружили плотно, закидали вопросами. Я видел только белые от волнения лица охранников… Да, по-разному к нему относились. Но я не считаю его погубителем, «разгромщиком» страны. Она развалилась сама по себе. Как там, у кого-то из допушкинских поэтов? «Жалеть его не должно, он сам своих виновник бед, терпя, чего без подлости терпеть не можно…»
— Вы ли это, Михаил Александрович! И — не жалеете?
— Ты о чём?
— О нём. О русском народе.
— Не надо, Сергей, демагогии. Движение истории. Горбачёву история дала первое слово. Понимаю, что его ещё долго будут клясть, ругать, доказывать его вину. Но во что выльются начавшиеся при нём перемены, будет ясно и понятно много позже, быть может, через десятилетия. Выльется ли всё начатое в диктатуру — его будут обвинять одни. В окончательный развал и расчленение государства — другие. В демократическое правовое устройство общества — третьи будут клясть…
— А возможно ли в принципе правовое устройство общества в России?
— Теперь уже не знаю… Надеялись, верили, намерения были самые благие… но сам знаешь, куда ими дорога выстлана. А с эпохой Горбачёва кончилось моё прямое участие в политических организациях или органах, делающих политику. Я сознательно отказался от этого…
— Устали? Надоело? Разуверились?
— Да я и не был никогда политиком.
— Как же? А членство в ЦК, в Ревизионной комиссии, Верховном Совете?
— Да, был депутатом Верховного Совета СССР и других советов разных уровней, был членом ЦК КПСС — последнего ЦК. Но в те годы диктата партии было всё в политике просто: выбирали по принципу представительства. «Вот есть у нас в ЦК два сталевара, пять доярок, одна-две учительницы» — этакий пасьянс раскладывался. И кто-то спохватывался: «Артистов-то вообще нет! Давайте-ка Ульянова выберем!»
— Из-за фамилии? Однофамильства с вождём мирового пролетариата?