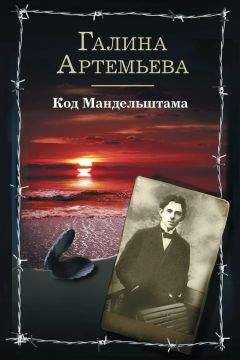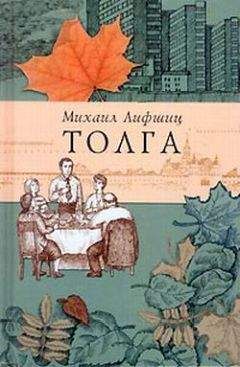Элла Вашкевич - Фаина Раневская. Психоанализ эпатажной домомучительницы
— Ты хочешь сказать, что Мачеха Раневской привлекательна для зрителей именно потому, что в ней есть совершенно узнаваемые и близкие для них черты характера? Вот это самое бытовое одиночество, о котором ты говоришь? — уточнил Бес.
— Именно! — подтвердил Психолог. — Между прочим, ты отлично сформулировал. Бытовое одиночество! Да! Знаешь, может, Мачеха Золушки была злой именно потому, что у нее — муж-растяпа, который гвоздя в стену вбить не может, зато отлично охотится на чудовищ для своего удовольствия. Тебе ведь знаком такой тип: взвалил на жену все заботы о семье и может оставаться милым, добрым и пушистым, пока она надрывается и превращается в стерву.
— Ну, друг мой, подобные превращения — дело рук обоих, — ухмыльнулся Бес. — Но я понимаю, что ты хочешь сказать. Миллионы людей узнавали в такой подаче или себя, или соседей. Твоя подопечная сыграла не просто сказочного персонажа, но вполне жизненный образ.
— Да, и показала при этом новую грань одиночества, — заметил Психолог. — Фактически каждый сыгранный ею образ открывает проблему одиночества с какой-либо стороны. Например, Ляля из «Подкидыша» [30]. Этакая решительная дама, скандалистка, бодро командующая мужем — и трагично одинока в желании иметь детей. Не удивительно, что в Лялю были влюблены и взрослые, и дети. А Люси Купер! [31]Вот где одиночество явное, разрывающее душу. Недаром на спектакле зрители плакали. Женщина, вырастившая пятерых детей и преданная ими. У нее — любящий муж, дети, а последние дни свои она проведет в доме престарелых… А Этель Сэвидж — еще одна героиня Раневской — вообще предпочла остаться в психиатрической лечебнице, так как за ее пределами чувствовала себя одинокой. Да, это довольно веселая пьеса, но какой трагизм одиночества скрывается за клоунским гримом! А Роза Скороход! Думаешь, зря Рузвельт, посмотрев «Мечту» [32], назвал Раневскую величайшей актрисой эпохи? И так — каждая роль, даже бессловесная роль таперши! [33]Как она играет на рояле, при этом курит, жует конфеты, здоровается с посетителями! И поет романс «Разорватое сердце» — между прочим, она его написала специально для этой роли. Персонаж смешной, гротескный, но это же — настоящий крик одиночества!
— Ты хочешь сказать, что сверхзадачей Раневской, для которой она вообще появилась на свет, была — показать людям одиночество? — Бес поскреб когтем между полированных рожек, привычным жестом поймал маленькую фиолетовую молнию и потушил затлевшую кудряшку. — Неужели это настолько важно? По-моему, одиночество — не такая уж великая проблема в вашем мире. У вас есть куда более глобальные вопросы. Войны, экономические кризисы, экологические катастрофы, новые смартфоны, наконец!
— Но об этом ведь всем известно. А вот одиночество — куда как более глубинная, скрытая проблема. Ее как бы и не существует, ведь вокруг — множество людей, так о каком одиночестве мы можем вообще говорить?! — воскликнул Психолог. — А ведь большинство людей, которые приходят ко мне за помощью, страдают не столько от различных фобий и комплексов, сколько именно от одиночества! Мне редко приходилось видеть людей не одиноких, которым бы комплексы мешали радоваться жизни.
— Ладно, соглашусь. Одиночество — чума нашей эпохи, — полунасмешливо мотнул головой Бес. — И папе-Фельдману подменили дочку, чтобы человечество смогло увидеть эту чуму собственными глазами.
— Кто знает… — понурился Психолог. — Но я вот подумал… Только не смейся, ладно? Я думаю, что невозможно во всей полноте ощутить трагедию отсутствия Его, если никогда не чувствовал одиночества среди людей…
Фаина Раневская: человек, которого не было
Психолог задумчиво вышагивал по кабинету. Каждый раз, когда перед ним стояла сложная задача, требующая напряжения мысли, он начинал ходить, уверяя себя и других, что физическая активность способствует активности клеток головного мозга. Так это или нет на самом деле, психолог не знал, но на ходу ему действительно думалось лучше.
Мебельная теснота мешала широте шага, но психолог привычно огибал острые углы, лихо разворачивался, меняя направление, и путь его был так же извивист, как у змеи, выискивающей самое теплое местечко на проселочной дороге, чтобы вволю покачаться в пыли.
Мысль тоже извивалась, бросаясь из стороны в сторону, ощупывая пыльные залежи информации. Пазл решительно не складывался. Вроде бы все было правильно и все кусочки на месте. Но почему-то каждый раз либо оставались лишние, либо наоборот — не хватало некоторых фигурок.
Психолог вспомнил, как в детстве разобрал дедушкины часы — солидный тикающий агрегат трофейного происхождения. Ему очень хотелось посмотреть, что же тикает там внутри. А потом собрал вновь. Часы были в точности как прежде, вот только упрямо отказывались тикать. Он разбирал и собирал их снова и снова, и каждый раз оказывалось, что у него на руках остается несколько лишних деталек, или наоборот, было видно, что нескольких деталек не хватает. Пришлось бежать к старому Хаиму — часовщику, который был древен настолько, что помнил погромы Гражданской войны. Старик быстро разобрался в лишних и исчезнувших детальках, а психологу строго наказал, чтобы тот больше никогда не пытался разбирать часы.
— Ты не чувствуешь механизма, — сказал Хаим. — Часы — как музыка, где у каждой ноты свое место. Ты же безбожно фальшивишь.
И теперь психолог мучился с подобной проблемой — деталек, которые никак не становились на место. Неужели он так же неудачлив в психологии, как в часовом деле? Неужели он перестал чувствовать человека?
Психолог налетел на книжный шкаф, больно ушиб бедро о тумбу. Потер больное место и присел, откинув голову так, что затылок касался туго запиханных томов. Он называл это «соприкосновение разумов» и верил, что таким образом впитывает из книг нечто неуловимое, что-то вроде тени настроения теней авторов.
Особенно беспокоило его заикание. Почему оно то исчезало, то появлялось? Никогда психолог не видел, чтобы Раневская заикалась на экране. А вот на уютном диване, расслабившись, подробно рассказывая о себе, она вдруг в какой-то момент начинала заикаться, но это быстро проходило, и рассказ вновь лился плавно и уверенно, без малейших признаков дефекта речи. С одной стороны, вроде бы все ясно: комплекс, который обусловил наличие заикания, есть, соответственно, и заикание на месте. Но Психолог чувствовал тут нечто большее, чем просто комплекс.
А откуда берутся противоречия? Один и тот же случай преподносится различным образом… Будто… будто…
Психолог вывернул на стол кучу кассет из коробки, начал рыться, отбрасывая в сторону ненужные пластмассовые прямоугольнички. То, что он искал, было где-то в этой куче. Вот! Вот тут!
Щелкнула кнопка магнитофона, и в кабинете зазвучал густой голос Фаины Раневской:
– Однажды произошла такая встреча… В пору Гражданской войны, прогуливаясь по набережной Феодосии, я столкнулась с какой-то странной, нелепой девицей, которая предлагала прохожим свои сочинения. Я взяла тетрадку, пролистала стихи. Они показались мне несуразными, не очень понятными, и сама девица косая. Я, расхохотавшись, вернула хозяйке ее творение. И пройдя далее, вдруг заметила Цветаеву, побледневшую от гнева, услышала ее негодующий голос: «Как вы смеете, Фаина, как вы смеете так разговаривать с поэтом?!»
Психолог улыбнулся, вытряхнул кассету из магнитофона, вставил другую. Вновь зазвучал знакомый голос:
– Есть такие, до которых я не смею дотронуться, отказалась писать о Качалове, а уж об А.А. подавно. В ней было все. Было и земное, но через божественное… Однажды я рассказала ей, как в Крыму, где я играла в то лето в Ялте — было это при белых, — в парике, в киоске сидела толстая пожилая поэтесса. Перед ней лежала стопка тонких книжек ее стихов. «Пьяные вишни» назывались стихи, и посвящались стихи «прекрасному юноше», который стоял тут же, в киоске. Герой, которому посвящались стихи, был косой, с редкими прядями белесых волос. Стихи не покупали. Я рассказала Ахматовой, смеясь, о даме со стихами. Она стала мне выговаривать: «Как вам не совестно?! Неужели вы ничего не предпринимали, чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись? Ведь вы добрая! Как вы могли не помочь?!» Она долго сердилась на меня за мое равнодушие к тому, что книги не покупали. И что дама с ее косым героем книги относили домой.
Одно и то же происшествие со стихами. Ну никак их не могло быть два аналогичных! И косоглазие это… Ахматова и Цветаева… И обе в воспоминаниях Раневской — прекрасны, благородны, человечны, лишены даже малейших недостатков. Каждая по-своему. Цветаева готова принять любого поэта только за то, что в душе его звучат рифмы, пусть даже понятные и внятные только для него одного. Ахматова — сочувствующая неудачникам, готовая подобрать и накормить бродячую собаку, отдать ей последнее, а потом голодать… Обе — невозможно замечательные, и эту замечательность оттеняет грубость самой Раневской, отсутствие у нее сочувствия к поэтессам-неудачницам… Но как же могли произойти оба события, одно — с участием Цветаевой, другое — с участием Ахматовой?