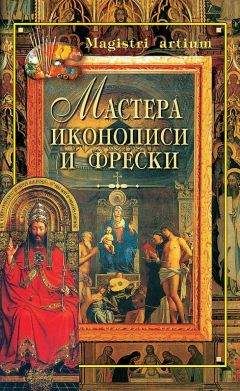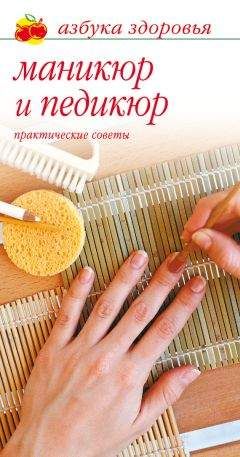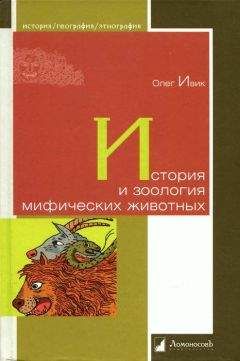Майя Туровская - Бабанова. Легенда и биография
А может быть, все-таки есть доказательства? Может быть, не в письмах, не в признаниях, а там, где более всего был велик и нелицеприятен Мейерхольд — в самом его творчестве, — остался какой-то видимый след встречи его с актрисой, близкой ему всем своим артистическим существом, хотя и отторгнутой от него волею судьбы?
Уже после того как все это было написано, в издательстве ВТО вышла книга «Творческое наследие В. Э. Мейерхольда». Открываю ее и читаю об одной из последних неосуществленных работ Мастера — над трагедией Пушкина «Борис Годунов».
Л. Руднева. Поиски и открытия
«В трагедию Мейерхольд ввел и того, кто ранее обозначен был в ней, скорее, лишь как образ-символ. Самыми неожиданными приемами он придал этому образу сценическую жизнь. Как олицетворение необычайной чистоты, как противопоставление властолюбцам и их клевретам, возникла проекция образа царевича Димитрия.
… Не в келье Пимена появится Димитрий. В другой сцене у него найдется двойник — мальчик из народа. … Мальчик поднимет свой голос в молитве… И тогда в нем проглянет юный Димитрий.
… Мейерхольд ввел образ мальчика, чей голос “должен прозвучать с удивительной и резкой чистотой”.
Образ царевича-отрока возникает на сцене как олицетворение попираемого, поруганного, многократно убиваемого… Его попирают все, кто топчется вокруг трона, участники этих непрерывных захватов власти над народом.
Вот такое олицетворение народной легенды о младенческой незамутненной чистоте возникает на сцене.
… Мейерхольд говорит, как чисто звучит голос мальчика на фоне пьяного стада…»
Мастер не просто фантазировал — он знал, что хотел бы услышать, он слышал этот отроческий голос и уже не раз — в агитспектакле «Рычи, Китай!», да и в том же «Ревизоре». Во всем русском театре не было другого такого голоса.
Л. Руднева (продолжение)
«Всеволод Эмильевич подробно толкует музыкальную канву, образ юного Димитрия, который на нее опирается, церковь пустая, гроб, звучание голоса {109} прозрачной чистоты… Чтение молитвы, как своеобразное пение. Отроческий голос несомненно углублял иллюзию соприсутствия “зрительного образа” мальчика, которого хотя и уничтожили, но все едино — он жив»[92].
Кому бы ни предназначил Мейерхольд эту роль, вспоминал он, вольно или невольно, о том, что было уже, прозвучало в его искусстве. И не был ли так любовно выпестованный образ царевича тайным реквиемом тому прекрасному творческому союзу, о котором как художник он не мог не помнить и не сожалеть, хотя бы и в глубине души?
… Мы сидим на диване, который был бы вполне уместен в мейерхольдовском «Ревизоре», у Марии Ивановны Бабановой. Всю жизнь она старалась не говорить о Мейерхольде или произносила через сжатые губы несколько маловразумительных слов. Даже в 1972 году, когда в Театральном музее имени Бахрушина собрались все бывшие участники «Великодушного рогоносца», чтобы отметить его пятидесятилетие (из них многие давно уже перестали быть актерами), отказалась прийти одна Бабанова. В этом видели иной раз неблагодарность, высокомерие — какая ошибка! Я рассказываю Марии Ивановне о черновике выступления Мастера, сохранившемся в его архиве, и она волнуется, как будто не прошло с тех пор полвека.
Давно уже для всех — для верных и неверных учеников, для архивистов и исследователей, для бывших зрителей — Мейерхольд прошлое. Оболганное и открытое вновь, описанное в десятках мемуаров, осмысленное, преодоленное, по-прежнему вызывающее раздражение и полемику, восторг или любопытство, но — прошлое. Предмет обсуждения, осуждения, реабилитации. И только для Марии Ивановны Бабановой Мейерхольд — вечно длящееся настоящее. Восторги и обиды, кромешный ужас расставания и сиротство — все это было сегодня, сейчас, сию минуту. Всегда. Точно в фантастической повести, где время остановилось. Или в повестях Тургенева, где стрясается одно событие, одно великое усилие души, а там монастырь, прозябание, душевные будни…
Другие написали о Мейерхольде, поведали о сложностях его характера и своих отношений с ним, а она все молчит: молчит пятьдесят лет. Для других он Учитель, Старик, Мастер, Мэтр. Для нее он Бог театра — гневливый, капризный, карающий, но Бог. Единственный для обезбоженной, трезвой и страстно верующей души. Все, что было потом — а было многое, — отмечено печатью несчастливой и безответной любви к Мастеру. Любви, в которой не было ничего житейского, никаких личных притязаний, а одна лишь «пламенная страсть» к искусству.
И если верно, что человек жив, пока жива память о нем, то Всеволод Эмильевич Мейерхольд жив каждую минуту, пока бьется сердце его единственной великой ученицы (все прочие были ученики) — стойкое сердце Муси Бабановой, изгнанной из рая полвека назад…
{110} Глава III
Театр Революции. Между школами
Из распоряжений по Театру Революции
«Считать на службе в Театре Революции в труппе театра с 1 сентября 1927 года. Бабанова М. И. Разряд 17,275 р.»[93].
«Громоздкое здание из красного кирпича, выходящее фасадом на Кисловский [ныне Собиновский. — М. Т.] переулок, с угловым выступом — фонарем, на котором по вечерам светится транспарант, анонсирующий сегодняшний спектакль. До 1919 г. у входа висели афиши опереточного театра. Сейчас на фасаде прикреплена надпись “Театр Революции” и помещены лозунги революционного театра»[94].
Так выглядело в 1927 году снаружи то здание, и сейчас мало изменившееся, которое отныне и навсегда стало единственным домом бывшей артистки Театра имени Мейерхольда Муси Бабановой. Теперь она не мейерхольдовка больше, а артистка Театра Революции, самостоятельный человек, Бабанова М. И., с пятилетним сценическим стажем, легендарной славой и неопределенным будущим.
«Левая» в искусстве, она была, как всегда, консервативна в жизни: терпеть не могла и боялась перемен. Театр Революции казался лучше прочих уж тем, что она в нем работала. Ее там знали, и она знала, куда идет.
«Через закругленные коридоры-променуары идет лестница в фойе, где устроен ленинский уголок и находится в виде целого сооружения стенная газета для публики.
В зрительном зале традиционной ярусной формы, в боковых ложах и в центре балкона помещены прожекторы, заменяющие рамповое освещение…
Неглубокая сцена… ограничена у самых стен подвижными, вертящимися щитами… на первом, втором и третьем планах сцены в центре и по бокам устроены провалы, подъемные площадки, действующие при помощи специальных механизмов»[95].
Так театр выглядел внутри. Здесь не было лепных потолков, бархатной роскоши и повышенных пайков бывших императорских театров. Не было матовых плафонов и скрадывающих шаги дорожек МХАТа. Не было и налаженного театрального механизма: вышколенных билетеров, исполнительных секретарей, опытных администраторов, умелых бутафоров. Помещение было тесное и неуютное, театральные цехи — не слишком квалифицированные, дирекция — неопытная.
С самых дней Теревсата все здесь носило характер временный, бивуачный, {112} как бы наспех сколоченный; все — в том числе и труппа. В этом, впрочем, Театр Революции был похож на свое время.
Время — не только в переносном, но и в самом буквальном смысле — тоже еще не устоялось. Часовую стрелку в целях экономии электроэнергии то и дело передвигали — никогда, кажется, не было столько декретов о времени, как в двадцатые годы. И в «Положении о Театре Революции», принятом в сезон 1925/26 года, было простодушно записано: «Во избежание недоразумений во времени верными часами считать театральные».
Для Бабановой это могло быть девизом всей ее жизни: она мерила ее по театральным часам.
В том же «Положении» значилось: «Оставаться во время репетиции в пальто и галошах строго воспрещается при условии соблюдения администрацией норм температуры в помещении для репетиции»[96]. Нормы эти соблюдались весьма относительно, да и вообще «снабжение» театра никогда не было на высоте. Ольга Пыжова, которая придет одновременно с Бабановой, но не из ТИМа, а из МХАТа (правда, Второго), напишет: «Меня поразила некомфортабельность закулисной части театра: тесные помещения, неуютные уборные, разбитые стекла. Все непохоже на мхатовское, на то, к чему мы так привыкли. … Но на неустроенность здесь никто не обращал внимания и никто от нее не страдал. … В разбитые окна и нетопленые помещения легче, казалось мне, проникает сегодняшний день с его напряжением, трудностями, активностью»[97].
Муся Бабанова об этих неудобствах не задумывалась, скорее всего, даже не замечала. Она выросла в Театре Мейерхольда во дни его голой конструктивистской молодости и жестокого жилищного кризиса. Она вместе со всеми «сушила своими легкими» сырое здание театра «б. Зон».