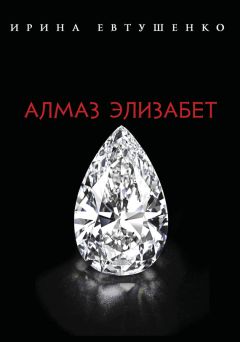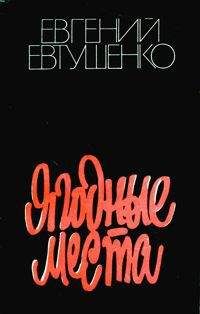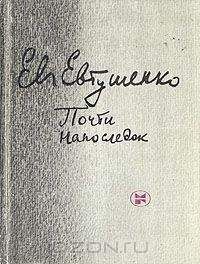А. Моров - Трагедия художника
— Что ж, думаю себе, — рассказывает Федор Иванович, — вот мой народ. — И округлым, неподражаемым жестом руки показал, как он снял свой цилиндр и как «по-королевски» раскланивался с жителями Лондона с правой и с левой стороны.
«Мой народ!» — и поклон направо.
«Мой народ!» — и поклон налево.
В небольшой рахманиновской гостиной, где в это время все как-то само собой оказалось поделенным на две половины — партер и сцену, — присутствовавшие сидели молча, едва дыша и буквально впившись глазами в Шаляпина. А этот кудесник казался совершенно неистощимым.
— Подождите, — сказал он, — мы с Сережей сейчас вам покажем!..
Рахманинов сел за рояль, а Федор Иванович стал петь. Пел много — песни мастеровых, крестьянские песни, цыганские. А под конец, по просьбе Рахманинова, спел «Очи черные». Да так, что на другой день Сергей Васильевич всем говорил: «Как Федя вчера меня утешил! Заметили вы, как он вздохнул, подлец, и всхлипнул: «Вы сгубили меня, очи черные»? Я не спал всю ночь. Не мог заснуть. Мне теперь хватит этого воспоминания, по крайней мере, на двадцать лет».
Казалось бы, человек, не в пример Михаилу Чехову столь удачливый и с таким талантом, как у Шаляпина, не может не быть счастлив. Но почитайте его высказывания и письма, адресованные друзьям и знакомым. Те, что написаны в год его и Рахманинова встречи с «художественниками» в Нью-Йорке, и в более позднее время. Сколько в них бесконечной, неизбывной тоски!.. Сколько горечи в описании жизни на чужбине!..
Вот строки из письма к Е. П. Пешковой, написанного в двадцать третьем году из Парижа: «...все хоть и хорошо здесь, а соскучился по России здорово!.. Шатаясь по Америке, чувствую себя как бы в каторжных работах — добыча американского золота настолько тяжела, что нынешнее лето не пришлось приехать в Россию...»
Годом позже, в письме к другому адресату, снова то же признание, что «приходится тянуть каторжную лямку», что «таскаться по Америкам тяжело и противно». Шаляпин мечтает (так пишет он сам) освободиться от обязательств, чтобы спеть «чудные спектакли и концерты в Москве и других городах СССР». Конечно, он сам виноват, что это не осуществилось. Но чего это стоило Шаляпину!..
— Не понимаю, — говорил он, иронизируя над самим собой, — почему я, русский артист, русский человек, должен жить и петь здесь, на чужой стороне? Ведь как бы тонок француз ни был, он до конца меня никогда не поймет. Да и там, в России, понимала и ценила меня по-настоящему галерка. Там была моя настоящая публика. Для нее я и пел. А здесь галерки нет.
Однажды в его присутствии балетмейстер парижской Большой оперы Сергей Лифарь, русский, прочно приспособившийся к чужой жизни, с большим оживлением рассказывал о своих планах, о том, как интересно обучать французских танцовщиц, возрождать во Франции искусство хореографии. Говорил Лифарь как человек честолюбивый, упоенный своими успехами. Шаляпин молчал и, казалось, не очень прислушивался к тому, о чем тот говорит. Балетмейстер пошутил на тему, что вот только приходится подлаживаться под вкусы публики, и было видно, что Лифаря это не очень огорчает. Шаляпин и тут отмолчался. Но когда балетмейстер стал воспевать художественное чутье парижской театральной публики, Федор Иванович вдруг произнес:
— Эх, Лифарь, Лифарь! Не знаете вы, что такое настоящая публика.
Тут он обратился к присутствующим при разговоре и спросил:
— Не правда ли, он не знает, а?
Потом добавил еще: «Эх, эх, эх!..» — и вдруг посмотрел на балетмейстера холодно и даже высокомерно. Присутствовавшему при этой сцене журналисту показалось, что Шаляпин на миг приоткрыл тут свою душу. И была она полна скорби о чем-то утраченном.
Такие настроения «находили» на него нередко.
Есть в Крыму, в Суук-Су, скала, носящая имя Пушкина. Когда-то Шаляпин задумал построить на ней замок искусства. Именно — замок. Он приобрел в собственность Пушкинскую скалу. Заказал архитектору проект замка. Купил даже гобелены для убранства стен. А потом уехал и, как Рахманинов, «окопался» за границей. Иногда люди говорили ему: «Еще найдется какой-нибудь любитель искусства который создаст вам ваш театр». Шаляпин их будто в шутку спрашивал: «А где он возьмет Пушкинскую скалу?»
— Но это, конечно, не шутка, — признавался сам Федор Иванович. И пояснял: — Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью. В каком-нибудь Огайо или на Рейне этот замок искусства меня не так прельщает. Что же касается «благородных любителей искусства», — не могу не надивиться одному парадоксальному явлению. Я знаю людей, которые тратят на оперу сотни тысяч долларов в год — значит, они должны искренно и глубоко любить театр. А искусство их — ersatz самый убогий. Сезон за сезоном, год за годом, в прошлый, как и в последующий, — все в их театрах трафаретно и безжизненно. И так будет через пятьдесят лет. Травиата и Травиата. Фальшивые актеры, фальшивые реноме, фальшивые декорации — дешевка бездарного пошиба. А между тем эти люди тратят огромные деньги на то, чтобы приобрести подлинного Рембрандта и с брезгливой миной отворачиваются от того, что не подлинно и не первоклассно. До сих пор не могу решить задачи — почему в картинной галерее должен быть подлинник и непременно шедевр, а в дорого же стоящем театре — подделка и третий сорт?
Неужели потому, — заключает свои горестные наблюдения Федор Иванович, — что живопись в отличие от театра представляет собой не только искусство, но и незыблемую валютную ценность?..
Писано это в тридцать втором, через год после встречи с Рахманиновым в Клерфонтэне. А тремя годами позже в переписке с друзьями из Советского Союза признается, что несказанно рад «за ту полную приятных волнений жизнь», которой теперь живет Родина. «Поверьте мне, — пишет он, — все, что делается прекрасного в Советах, как-то особенно волнует меня, и порою я досадую, что не имею приятной возможности сам участвовать около создания этого нового... А Отчизну мою обожаю! И обожание это ношу и буду носить в сердце моем до гробовых досок».
Эти два человека — Шаляпин и Рахманинов, — во многом такие разные, были близки в своих чувствах к Родине. Только у Федора Ивановича все, как обычно, выглядело чуть-чуть театрально-аффектированным, у Сергея Васильевича — сдержанным. У одного — «погромче», у другого — «потише». Однако когда пришел решающий для Родины час, когда фашистская Германия напала на Советский Союз, Рахманинов тотчас явился в советское посольство и спросил, чем он может помочь своей Отчизне. Потом дал ряд концертов и на собранные деньги приобрел рентгеновское оборудование для госпиталей Советской Армии. В сопроводительном письме Сергей Васильевич писал: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу!» Потом все время до последних дней жизни с волнением следил за положением на фронтах. Радовался, когда победа склонилась на сторону русского оружия, и, слушая об успехах советских воинов, облегченно вздыхал и говорил: «Ну, слава богу! Дай им бог сил!»
Но до начала Великой Отечественной войны еще было десять лет. Рахманинов писал в Клерфонтэне свои Вариации на тему Корелли для фортепиано, готовился к очередному туру концертных выступлений, встречался с друзьями, с интересом следил за новинками советской музыкальной литературы. А в присутствии Михаила Чехова, слушая однажды грампластинки с записями советских песен, долго крепился, а потом расплакался.
Раза два, по просьбе Рахманинова, Михаил Александрович читал ему рассказы Антона Павловича Чехова. Это был один из «коньков» артиста, и чтение его доставляло Рахманинову неизъяснимое наслаждение. В разговорах они часто возвращались к Художественному театру. Михаил Чехов не участвовал в нью-йоркских гастролях коллектива в двадцать третьем, но и он, как Иван Михаилович Москвин, удивительно хорошо рассказывал про театр, про разные смешные и занятные случаи из жизни дружной семьи его артистов, про Станиславского.
— Ох, обожаю я это! — говорил, смеясь, Сергей Васильевич.
Михаил Чехов, неподражаемо имитировавший свое го учителя, знал множество курьезных историй, которые с ним приключались, забавно рассказывал о его странностях, о забывчивости, о его оговорках на сцене и в жизни. Рахманинов мог слушать про это снова и снова. И сколько бы раз Михаил Чехов ни повторял ему все те же истории, он смеялся и, отирая слезы, просил: «Ну еще что-нибудь. А вот это как было? Помните, вы говорили, что он...» И смеялся заранее. А насмеявшись, вздыхал и, глядя в пространство, говорил с расстановкой: «Какой человек!..» И в эти минуты глаза его становились похожими на глаза Станиславского — так ясно он видел его и так любил. И тогда Чехову казалось, что глаза эти словно спрашивают его: «Что же дальше?»
Но дальше был туман...