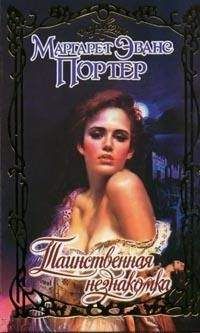Генрих Гейне - Стихотворения. Поэмы. Проза
Сегодня первое мая; точно море жизни, изливается на землю весна, белая пена остается висеть на ветках деревьев, и широкая, теплая сияющая дымка лежит на всем; в окнах городских домов весело поблескивают стекла, под крышами воробьи снова вьют свои гнездышки, а по улицам Гамбурга ходят люди и дивятся, что воздух такой волнующий, что у них на душе так чудесно; крестьянки из пригородов в своих пестрых одеждах продают букеты фиалок, сиротки в голубых кофточках, со своими хорошенькими внебрачными личиками, проходят по Юнгфернштигу и радуются так, будто сегодня им предстоит найти отца; у нищего на мосту такой довольный вид, точно ему выпал главный выигрыш; даже чернявого маклера с лицом жулика-мануфактурщика, по которому плачет виселица{517}, и того озаряет солнце своими беспредельно терпимыми лучами, — я же пойду за городские ворота.
Сегодня первое мая, и я думаю о тебе, прекрасная Ильза, — или мне называть тебя Агнесса, оттого что это имя больше всех тебе нравится? Я вспоминаю о тебе, и мне хотелось бы вновь посмотреть, как ты, сверкая, сбегаешь с горы. Больше всего мне хотелось бы стоять внизу, в долине, и принять тебя в свои объятия. Какой прекрасный день! Всюду вижу я зеленый цвет, цвет надежды. Всюду, как светлые дива, расцветают цветы, и мое сердце тоже хочет опять зацвести. Это сердце ведь тоже цветок, и к тому же преудивительный. Оно — не робкая фиалка, не смеющаяся роза, не чистая лилия или другой подобный им цветочек, который радует своей скромной прелестью душу девушки, так красив он на красивой груди и нынче вянет, завтра расцветает вновь. Это сердце больше походит на тот тяжелый причудливый цветок бразильских лесов, который, по преданию, цветет лишь раз в столетье. Помню, мальчиком я видел такой цветок. Мы услышали ночью выстрел, словно из пистолета, а наутро соседские дети рассказали мне, что это их алоэ распустилось вдруг с таким треском. Они повели меня в свой сад, и там я увидел, к своему изумлению, что низкое, жесткое растение с нелепыми широкими зубчатыми листьями, о которые легко было уколоться, теперь высоко поднялось, и наверху, подобный золотому венцу, распустился великолепный цветок. Мы, дети, не могли дотянуться до него; и ухмыляющийся старый Христиан, который любил нас, построил вокруг цветка деревянные мостки; мы влезли на них, как кошки, и с любопытством заглядывали в открытую чашечку цветка, из которой поднимались лучами жадные нити тычинок и странно дикий, неслыханно роскошный аромат.
Да, Агнесса, не часто и не легко расцветает это сердце; насколько я помню, оно цвело лишь один-единственный раз, вероятно, очень давно, не меньше ста лет назад. Мне кажется, как ни великолепно распустился тогда цветок, он все же должен был захиреть от недостатка солнечного света и тепла, если даже и не был уничтожен суровой зимней бурей. Но теперь что-то зреет и теснится в моей груди, и если ты вдруг услышишь выстрел, — девушка, не пугайся! Я не застрелился, это раскрылся бутон моей любви, и она рванулась ввысь сияющими песнями, вечными дифирамбами и радостнейшей полнотой созвучий.
Если, однако, эта высокая любовь слишком высока, девушка, не стесняйся, поднимись по деревянной лесенке и загляни в мое цветущее сердце.
Еще только начало дня, солнце едва прошло половину своего пути, а мое сердце уже благоухает так сильно, что у меня голова начинает кружиться и я уже не различаю, где кончается ирония и начинается небо, и я населяю воздух своими вздохами и хотел бы опять растечься потоком сладостных атомов в предвечной божественности; что же будет, когда наступит ночь и в небе выступят звезды, «те несчастные звезды, что скажут тебе»…
Сегодня первое мая, и последний ничтожный лавочник имеет право на сентиментальность, так неужели ты запретишь ее поэту?
Идеи
Книга Le Grand (1826)
Перевод Н. Касаткиной
Трона нашего оплот,
Первенствующий в народе
Эриндуров славный род
Устоит назло природе.
Мюльнер, «Вина»{518}Эвелина пусть примет эти страницы
как свидетельство дружбы и любви автора.
Она была привлекательна, и он
любил ее, он же не был привлекателен,
и она не любила его.
Старая пьесаMadame{519}, знаете ли вы эту старую пьесу? Это замечательная пьеса, только, пожалуй, чересчур меланхолическая. Я играл в ней когда-то главную роль, и все дамы плакали при этом; не плакала лишь одна-единственная, ни единой слезы не пролила она, но в этом-то и была соль пьесы, самая катастрофа.
О, эта единственная слеза! Она все еще продолжает мучить меня в воспоминаниях. Когда сатана хочет погубить мою душу, он нашептывает мне на ухо песню об этой непролитой слезе, жестокую песню с еще более жестокой мелодией, — ах, только в аду услышишь такую мелодию!
Как живут в раю, вы, madame, можете представить себе без труда, тем более что вы замужем. Там жуируют всласть и имеют немало плезира, там живут легко и привольно, ну, точно как бог во Франции. Там едят с утра до ночи, и кухня не хуже, чем у Ягора{520}, жареные гуси порхают там с соусниками в клювах и чувствуют себя польщенными, когда их поглощают, сливочные торты произрастают на воле, как подсолнечники, повсюду текут ручьи из бульона и шампанского, повсюду на деревьях развеваются салфетки, которыми праведники, покушав, утирают рты, а затем снова принимаются за еду, не расстраивая себе пищеварения, и поют псалмы, или шалят и резвятся с милыми, ласковыми ангелочками, или прогуливаются по зеленой аллилуйской лужайке, а их воздушно-белые одежды сидят очень ловко, и ничто, никакая боль и досада не нарушают чувства блаженства, и даже если кто-нибудь кому-нибудь случайно наступит на мозоль и воскликнет: «Excusez!»[50] — то пострадавший улыбнется светло и поспешит заверить: «Поступь твоя, брат мой, отнюдь не причиняет боли, и даже, au contraire,[51] наполняет сердце мое сладчайшей неземной отрадой».
Но об аде вы, madame, не имеете никакого понятия. Из всех чертей вам, быть может, знаком лишь самый маленький дьяволенок — купидон, образцовый крупье ада, о самом же аде вы знаете только из «Дон-Жуана», а для этого обольстителя женщин, подающего дурной пример, ад, по вашему суждению, никогда не может быть достаточно жарок, хотя наши достославные театральные дирекции, изображая его на сцене, пускают в ход такое количество световых эффектов, огненного дождя, пороха и канифоли, какое только может потребовать для ада добрый христианин.
Между тем в аду дело обстоит гораздо хуже, чем представляется директорам театров, иначе они остереглись бы ставить столько плохих пьес, — в аду прямо-таки адски жарко, и когда я однажды попал туда на летние каникулы, мне показалось там невыносимо. Вы не имеете никакого понятия об аде, madame. Мы получаем оттуда мало официальных сведений. Правда, слухи, будто бедные грешники должны по целым дням читать там все те плохие проповеди, которые печатаются тут, наверху, — сущая клевета. Таких ужасов в аду нет, до таких утонченных пыток сатана никогда не додумается. Напротив, описание Данте несколько смягчено и в общем опоэтизировано.
Мне ад явился в виде большой кухни из зажиточного дома с бесконечно длинной плитой, уставленной в три ряда чугунными котлами, в которых сидели и жарились нечестивцы. В одном ряду сидели христианские грешники, и — трудно поверить! — число их было вовсе немалое, и черти особенно усердно раздували под ними огонь. В другом ряду сидели евреи; они непрестанно кричали, а черти время от времени поддразнивали их; так, например, очень потешно было смотреть, как один из чертенят вылил на голову толстого, пыхтевшего ростовщика, который жаловался на жару, несколько ведер холодной воды, дабы показать ему воочию, что крещение — поистине освежающая благодать. В третьем ряду сидели язычники, которые, подобно евреям, не могут приобщиться небесному блаженству и должны гореть вечно. Я слышал, как один из них негодующе крикнул из котла дюжему черту, сгребавшему под него угли: «Пощади меня! Я был Сократом{521}, мудрейшим из смертных, я учил истине и справедливости и отдал жизнь свою за добродетель!» Но глупый дюжий черт продолжал свое дело и только проворчал: «Э, что там! Всем язычникам положено гореть, и для одного мы не станем делать исключение!»
Уверяю вас, madame, там была ужасающая жара, со всех сторон слышались крики, вздохи, стоны, вопли, визги и скрежетания, но сквозь все эти страшные звуки настойчиво проникала жестокая мелодия той песни о непролитой слезе.
Глава IIОна была привлекательна, и он
любил ее, он же не был привлекателен,
и она не любила его.
Старая пьесаMadame! Старая пьеса — подлинная трагедия, хотя героя в ней не убивают и сам он не убивает себя. Глаза героини красивы, очень красивы, — madame, не правда ли, вы почувствовали аромат фиалок? — они очень красивы, но так остро отточены, что, вонзившись мне в сердце подобно стеклянным кинжалам, они, без сомнения, проткнули меня насквозь — и все же я не умер от этих смертоубийственных глаз. Голос у героини тоже красив, — madame, не правда ли, вам послышалась сейчас трель соловья? — очень красив этот шелковистый голос, это сладостное сплетение солнечных звуков, и душа моя запуталась в них, и трепетала, и терзалась. Мне самому, — это говорит теперь граф Гангский, и действие происходит в Венеции, — мне самому прискучили наконец такие пытки, и я решил кончить пьесу уже на первом акте и прострелить шутовской колпак вместе с собственной головой. Я отправился в галантерейную лавку на via Burstah[52]{522}, где были выставлены два прекрасных пистолета в ящике, — я припоминаю ясно, что подле них стояли радующие глаз безделушки из перламутра с золотом, железные сердца на золотых цепочках, фарфоровые чашки с нежными изречениями, табакерки с красивыми картинками, изображавшими, например, чудесную историю Сусанны{523}, лебединую песнь Леды, похищение сабинянок{524}, Лукрецию{525}, эту добродетельную толстуху, с опозданием прокалывающую свою обнаженную грудь кинжалом, покойную Бетман{526}, La belle Ferronière[53]{527} — все привлекательные лица, — но я, даже не торгуясь, купил только пистолеты, купил также пули и порох, а потом пошел в погребок синьора Унбешейден{528} и заказал себе устриц и стакан рейнвейна.