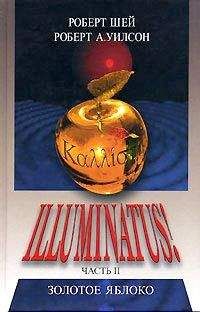Константэн Григорьев - Подборка стихов - часть первая
Снится - стою за прилавком
Я под луною, в пустыне,
С вихрем каким-то торгуюсь.
Дубовый метод (басня).
В Москве, в одном из модных клубов,
где веселилась молодежь,
сидел поэт Серега Дубов,
замыслив учинить дебош.
Серега был уже хорош:
он все шипел кому-то: "Врешь,
нас, самородков, ты так просто не возьмешь!"
Серега водочку с собой пронес тайком
и под столом
все наполнял за рюмкой рюмку,
в рот опрокидывал, курил и думал думку,
короче, вел себя подобно недоумку.
Приехав покорять столицу,
успел уже наш Дубов обломиться
и начал злиться.
Его поэму "Даль родная",
где Дубов пышным слогом воспевал
березки и цветы какого-то там края,
никто в Москве печатать не желал.
Безденежье Серега проклинал,
он сам себя вторым Есениным считал.
И вот решил прославиться скандалом,
войти в историю поэзии нахалом.
Когда до нужной он кондиции дошел,
то влез на стол
и начал громко декламировать поэму
на вышеназванную тему.
Он что-то там кричал про роднички
и про поля, но тут охранники-качки
поэта со стола стащили, пьяного,
и вышвырнули прочь из клуба данного.
Сначала Дубов возмущался и орал,
потом поплелся среди ночи на вокзал,
шепча: "Не поняли, козлы, не оценили!
Уеду прочь и успокоюсь, блин, в могиле".
Мораль:
Друзья! Прославиться есть методы готовые,
они не новые,
но не такие, как у Дубова, дубовые.
И если кто захочет стать поэтом,
пусть помнит он об этом.
Как и о том,
что истинным талантам дозволяется
довольно многое, серьезно,
из того,
что рифмоплетам бесталанным воспрещается.
И в этом истины я вижу торжество.
...А что до Дубова - я, правда, знал его.
Впечатлительный Кузьма (басня).
"Какая поэзия, - сказал Иван Филиппович тараканьим голосом. - Жрать надо... Не только поэзия, я, уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти... Поэзия..."
М. Зощенко, рассказ "Крестьянский самородок".
Поэт Кузьма Беднов на раскладушке
лежал и размышлял в один из дней:
"У всех поэтов есть свои кормушки
и связи средь влиятельных людей.
Ах, как бы к тем кормушкам подобраться
и наравне со всеми обжираться
и премии за книжки получать?
Ну, как туда пролезть, япона мать?
А если мне фамилию сменить
и не Бедновым вовсе быть,
а, скажем, стать Алмазовым Кузьмою
или Кузьмою Звездным?! Эх, не скрою,
стать знаменитым хочется порою..."
Беднов открыл газету, пролистал
и с раскладушки вдруг своей упал,
наткнувшись на заметку
про некую смазливую нимфетку,
которой за стишки ее на днях
вручили премию - да в баксах, не в рублях
пятнадцать тысяч долларов вручили!
Беднов взревел, как будто соус "чили"
без ничего отправил внутрь себя,
и, носом яростно трубя,
на кухню побежал в своей квартире,
там нож достал и сделал харакири.
И вот лежит он, дрыгая ногами,
известный крайне слабыми стихами,
а более, пока, увы, ничем...
Но что он доказал? Кому? Зачем?
Мораль:
Нет справедливости в подлунном этом мире,
и это ясно всем, как дважды два - четыре,
но разве это повод к харакири
или к сэппуку?
Сию науку
запомни друг, и сочиняй, как прежде,
в надежде,
что и тебе однажды премию дадут.
В спокойствии верши свой труд
и не завидуй, если можешь, никому.
Не спрашивай, как так и почему.
Ты вспомни-ка несчастного Кузьму,
что с диким воплем улетел от нас во тьму
затем, что начитался он газет...
Беднов был слишком впечатлительный поэт.
Про Глупона Рифмушкина.
Глупон Рифмушкин всюду тискает стихи
Они неискренни и попросту плохи;
Откроешь книгу иль другую - всюду он,
Бездарно серый, скучно-правильный Глупон.
В его стишках, увы, не встретишь никогда
Богатства мыслей, волшебства; но без стыда
Рифмушкин пошлости назойливо твердит,
Ревет ослом о том, что у него болит.
Я - слишком мягкий человек, и потому,
Глупона встретив, не скажу о сем ему,
Однако томик маньеристов предложу:
Вот где поэзия - понятно и ежу.
Ко мне Ветраны и Красавы подбегут,
И с удовольствием автограф мой возьмут,
И увлекут меня туда, где пир горой;
Стоит Рифмушкин онемелый - что ж, постой,
Да поучися у Ветран и у Красав:
Девчонки эти, несмотря на легкий нрав,
Всегда прекрасно понимают, где талант,
А где бездарности фальшивый бриллиант.
Да, поучися! И внимательно читай
Том маньеристов; конспектируй, изучай,
Вот где Поэзии сияет торжество!
Вот где изящество, огонь и волшебство!
Пологий лоб твой пусть наполнит оптимизм,
Ты проповедуй куртуазный маньеризм,
Но лучше сам ты не пиши стихов вовек,
И скажут все: "Какой прекрасный человек!"
1997 год.
Продавщица смеха.
Она продавала мешочки со смехом
В пустом переходе метро...
С концерта я шел, опьяненный успехом,
Хотелось мне делать добро!
Она показалась мне милой безмерно,
Товар ее - жутко смешным...
Приблизился к ней с грациозностью серны,
Спешащей за кормом своим.
С присущим мне шиком, с особым талантом
Я все у ней разом скупил!
Надел ей на палец кольцо с бриллиантом,
Но жест мой ее не смутил.
В молчанье великом жуя свою жвачку,
(как будто брильянт - пустячок),
упрятала сотенных толстую пачку
в студенческий свой рюкзачок,
взяла меня под руку; из перехода
на свет мы шагнули вдвоем,
и голос ее прозвучал с небосвода:
"Ну что, мы куда-то пойдем?"
И нас закружило, и нас завертело
По всем дискотекам Москвы...
Но, хоть я отплясывал лихо и смело,
Она говорила мне "вы".
Мы приняли "экстази", мы забалдели,
Козлом я вообще заскакал!
С ней между зеркальных шаров мы летели
Что ж я ей роднее не стал?
Кружило-вертело, вертело-кружило,
А где-то под утро уже
Она подвела ко мне парня-дебила
Под гримом густым, в неглиже.
"Ой, кто это?" - искренне я испугался.
В ответ прозвучало: "Бойфренд".
Дебил ухмылялся, дебил возвышался,
Как страсти чужой монумент.
Увел я ее из орущего зала,
Стал на ухо что-то кричать.
Она танцевала и тоже кричала,
Кричала: "О чем вы, а, дядь?"
"Что общего, детка, меж ним и тобою?"
ее вопрошал вновь и вновь.
Она улыбнулась, тряхнув головою,
И просто сказала: "Любовь..."
...Я ехал в такси, оглушен неуспехом,
обжегшийся делать добро.
Опять продавать ей мешочки со смехом
В пустом переходе метро.
А жаль. Было в девушке что-то такое,
Что я осознать не успел...
Есть в девушках прочих, конечно, другое,
Но я это "что-то" хотел!
Так смейтесь, мешочки, как раньше смеялись,
Напомнив мне через года,
Что с ней мы расстались, мы с нею расстались,
Расстались уже навсегда!
И мне никогда не узнать, что с ней сталось,
И массу подобных вещей:
Как в том переходе она оказалась
И как ее звали вообще?
1997 год.
Роза.
За стихи мне девушка розу подарила.
Ах, спасибо, ангел мой! Как же это мило!
Нет, вы только вдумайтесь - это вправду было!
За стихи мне девушка розу подарила!
Я стоял-болтал в толпе, посредине зала.
Засверкало все кругом, а затем пропало.
Мы остались с ней одни в ледяной пустыне,
Где холодный лунный свет на торосах стынет.
"Это Вечность", - понял я, вздрогнул и очнулся.
И, как пьяный, розу взял, даже покачнулся.
Девушка во все глаза на меня смотрела.
Услыхал не сразу я, как толпа шумела.
Все вернулось на места - лица, краски, звуки,
Кто-то книгу мне пихал в занятые руки:
"Надпишите, Константэн!" - "Да, сейчас, конечно..."
Начинался так концерт, он прошел успешно.
Я счастливый шел домой, вспоминал: "Как мило!
Девушка мне - Боже мой! - розу подарила!"
1997 год.
Оленька (поэма-экспромт).
Мы с тобой слились в экстазе
И в безумьи сладких стонов
В эру пейджинговой связи
И мобильных телефонов.
Я приехал во Владимир
И в тебя влюбился, Оля.
Помнишь - к ночи город вымер?
Мы, принявши алкоголя,
Вдруг пошли гулять к обрыву,
От компании удрали;
Там мы дань воздали пиву...
Нас желанья раздирали!
Подо мной трещали сучья
И твое ласкал я тело:
Вся твоя натура сучья
Моего "дружка" хотела.
(Оля, если ты читаешь
это все, не обижайся!
Я ж - любя, ты понимаешь?
Ты читай и улыбайся).
Помнишь - там нам помешали?
А из мрамора ступени,
По которым в парк вбежали,
Их ты помнишь? ветви, тени?
В парке хоть луна светила.
На скамье, решив, что можно,
Ты "дружка" рукой схватила
И пожала осторожно.
И, закрыв глаза, держала,
Трепеща от возбужденья:
Плоть в руке твоей дрожала,