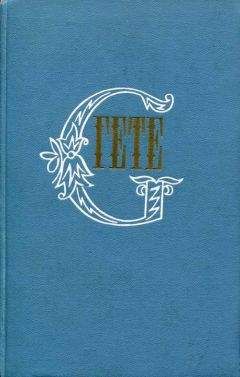Антология - Западноевропейская поэзия XХ века
ШАГИ
Перевод Е. Витковского
Вцепившись в набитый соломой тюфяк,
я медленно гибну во тьме.
Светло в коридоре, но в камере мрак,
спокойно и тихо в тюрьме.
Но кто-то не спит на втором этаже,
и гулко звучат в тишине
вперед — пять шагов,
и в сторону — три,
и пять — обратно к стене.
Не медлят шаги, никуда не спешат,
ни сбоя, ни паузы нет;
был пуст по сегодняшний день каземат,
в котором ты ходишь, сосед, —
лишь нынче решений, ты после суда
еще неспокоен, чужак,
иль, может, навеки ты брошен сюда,
и счета не ведает шаг?
Вперед — пять шагов,
и в сторону — три,
и пять — обратно к стене.
Мне ждать три недели — с зари до зари,
двенадцать ушло, как во сне.
Ну сделай же, сделай на миг перерыв,
замри посреди темноты, —
когда бы ты знал, как я стал терпелив —
шагать и не вздумал бы ты.
Но кто ты? Твой шаг превращается в гром,
в мозгу воспаленном горя.
Вскипает, рыдая, туман за окном,
колеблется свет фонаря, —
и, вставши, я делаю вместе с тобой —
иначе не выдержать мне! —
вперед — пять шагов,
и в сторону — три,
и пять — обратно к стене.
«Я сидел в прокуренном шалмане…»
Перевод Е. Витковского
Я сидел в прокуренном шалмане,
где стучали кружки вразнобой, —
хлеба взял, почал вино в стакане —
и увидел смерть перед собой.
Здесь приятно позабыть о мире,
но уйти отсюда должен я,
ибо радость выпивки в трактире
не заменит смысла бытия.
Жить, замуровав себя, — жестоко,
ибо кто подаст надежный знак,
неизвестно ни числа, ни срока,
давят одиночество и мрак, —
радость и жестокость — что желанней?
Горше и нужнее — что из них?
Мера человеческих страданий
превосходит меру сил людских.
Надо чашу выпить без остатка,
до осадка, что лежит на дне,
ибо то, что горько, с тем, что сладко,
непонятно смешано во мне.
Я рожден, чтоб жить на этом свете
и не рваться из его оков,
потому что все мы — божьи дети,
от начала до конца веков.
ШЛЮХА ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ
Перевод Е. Витковского
Дождик осенний начнет моросить еле-еле;
выйду на улицу и отыщу на панели
гостя, уставшего после тяжелого дня, —
чтобы поплоше других, победнее меня.
Тихо взберемся в мансарду, под самую кровлю
(за ночь вперед заплачу и ключи приготовлю),
тихо открою скрипучую дверь наверху,
пива поставлю, нарезанный хлеб, требуху.
Крошки смахну со стола, уложу бедолагу,
выключу тусклую лампу, разденусь и лягу,
буду ласкать его, семя покорно приму, —
пусть он заплачет, и пусть полегчает ему.
К сердцу прижму его, словно бы горя и нету,
тихо заснет он, — а утром уйду я до свету,
деньги в конверте оставлю ему на виду…
Похолодало — наверное, завтра пойду.
ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ
Перевод Е. Витковского
В лепрозории даже зимой не топили печей.
Сторожа воровали дрова на глазах у врачей.
Повар пойло протухшее в миски больным наливал,
а они на соломе в бараках лежали вповал.
Прокаженные тщетно скребли подсыхающий гной,
на врачей не надеясь, которым — что пень, что больной.
Десять самых отчаянных ночью сломали барак,
и, пожитки собрав, умотались в болота, во мрак.
Тряпки гнойные сбросили где-то, вздохнули легко.
Стали в город крестьяне бояться возить молоко,
хлеб и пшенную кашу для них оставляли в лесу
и, под вечер бредя, наготове держали косу.
Поздней осенью, ночью, жандармы загнали в овраг
обреченных, рискнувших пойти на отчаянный шаг.
Так стояли, дрожа и друг к другу прижавшись спиной,
только десять — одни перед целой враждебной страной.
ЛЮБЛИНСКАЯ ПЕЧЬ[6]
Перевод Г. Ратгауза
На пустоши топится жуткая печь,
Поблизости — город Люблин.
Людей, чтобы жаркое пламя разжечь,
Грузили в вагон для скотин.
И тысячи граждан из каждой страны
Отравлены газом, живьем сожжены
В печи твоей алой, Люблин.
Под свастикой, в мраке могильных крестов
Три года томился Люблин.
Палач не спешил хоронить мертвецов,
Он гнал вереницы машин;
Под пломбами грузы машина везла,
В мешках опечатаны кость и зола.
Так нивы удобрил Люблин.
И вот пятилучье победной звезды
Весною увидел Люблин.
Но копоти черной не смыты следы
От Карпат до французских долин,
И пламенный, чадный пылает позор,
Пока не зальет своей кровью топор
Последний палач твой, Люблин!
ВИЛЬГЕЛЬМ САБО
Вильгельм Сабо (род. в 1901 г.). — Детство провел в семье крестьянина, у приемных родителей. Учился в Вене. С 1921 г. был учителем в деревнях и маленьких городках. В 1938 г. оккупационные власти запретили ему заниматься преподаванием, и до 1945 г. он находился па положении «свободного писателя» (хотя почти не печатался). С 1945 г. — директор школы в Нижней Австрии. Первый сборник стихотворений, «Во тьме деревень», выпустил в 1933 г. Известен также как переводчик (переводил, в частности, Сергея Есенина).
На русском языке публикуется впервые.
САРАНЧА В 1338 ГОДУ[7]
Перевод В. Топорова
Восток мутился к вечеру, и нечисть,
В летучие полки вочеловечясь,
Над полем яростно клубилась —
Чума и язва моровая, —
Клубилась, небо закрывая,
Пока на хлеб не опустилась.
В восьмом часу и, может быть, в девятом
Был урожай еще богатым —
Но гадины голодные сновали,
Во ржи и в клевере сидели,
Перелетали дальше и гремели
Крылами, словно крышками роялей.
А в деревнях до неба голосили,
Не в силах избежать насилья,
И жгли костры на ближнем взгорье,
И шли на ощупь, как в густом тумане,
Шепча молитвы, причитанья
И просто — причитая в горе.
А саранча вгрызалась, и казалось,
Она в сердца мужицкие вгрызалась,
Вгрызалась дружно, челюсть в челюсть,
И на колосьях восседала чинно,
И было небо так невинно
Над хрустом, было пусто, просто прелесть.
И саранча снялась с хлебов с зарею,
Нажравшись, но блистая худобою,
Черна, неутомима, ненасытна —
Вперед на запад было поле,
Еще не онемевшее от боли, —
На запад было небо беззащитно.
ГУГО ГУППЕРТ
Гуго Гупперт (род. в 1902 г.). — Поэт, переводчик и публицист. Член Коммунистической партии Австрии. Учился в Вене и Париже, в 20-х годах принимал активное участие в рабочем движении. Подвергался полицейским преследованиям. В 1928 г. уехал в СССР, где жил вплоть до 1956 г. В СССР в 1940 г. выпустил первый сборник стихотворений. С конца 20-х годов много и плодотворно работает над переводами произведений русской и советской поэзии — ему принадлежит перевод пятитомного Собрания сочинений В. Маяковского, переводы из Пушкина, а также «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, за который в 1972 г. Гупперт удостоен Горьковской премии.
На русский язык переводится с середины 30-х годов.
БРИГАДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЯНВАРЯ
(Кузбасская баллада)
Перевод М. Ваксмахера
Вечером в бараке бригадир сказал,
Прижавшись к печке спиной:
«Завтра — день памяти Ленина,
Завтра у нас выходной».
Ночь была черна, как базальт.
Тверд мороз, как гранит.
А в бараке — сало и чай,
Лопаты и динамит.
Люди бурили, долбили, скребли,
Проклятый грунт был острей стекла.
Тоскуя по снегу, стыла земля.
Работа была, как грунт, тяжела.
Завтра — памяти Ленина день.
Передышка завтра, привал.
«Эй, бригадир, расскажи-ка нам,
Что ты в тот год повидал».
«Нас, красноармейцев, из Петрограда
Прислали в Москву, в почетный караул.
Выходим ночью из вагона — видим:
Мороз-то уже к сорока шагнул.
Дома на улицах заиндевели,
Словно изъедены ржавчиной седой…
А еще страшней, чем мороз, чем ветер,
Великая скорбь над Москвой…
Мне не забыть детей постаревших,
Взрослых, что плачут по-детски, навзрыд.
Улицы стонут, стонут площади,
Камень слезой застывшей облит.
Гроб Ильича Москва обнимает,
Кострами греет, как мать нежна.
Как сегодня, вижу: идут и идут
Народы и племена.
Скорбное солнце в морозной дымке
Кажется не солнцем — луной.
Руки жжет горячей огня
Винтовки металл ледяной.
Поплыл над домами плач сирен.
Паровозы — в клубах дыма и пара.
Ударили пушки. Люди несли
Ленина вокруг земного шара.
Весь мир на Красную площадь пришел,
С вождем прощался народ.
Видите — у меня на партийном билете
Двадцать четвертый год…»
Люди смотрели на партийный билет
Своего бригадира. И в полумраке
До полуночи о Ленине шел разговор
В рабочем бараке.
А двадцать первого января,
Утром, в морозный туман,
Бригада лопаты взяла
И пошла в котлован.
Был этот день торжеством труда.
Сорокаградусный злился мороз.
Копали, взрывали, бурили, скребли.
Котлован на глазах рос.
«Цемент привезут — послезавтра фундамент
Класть начинаем, — бригадир кричал, —
Чтоб через год дала металл
Домна имени Ильича!»
МАЯКОВСКИЙ В БАГДАДИ