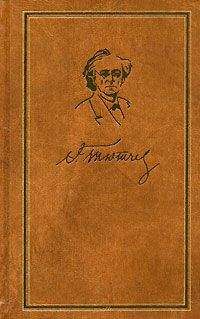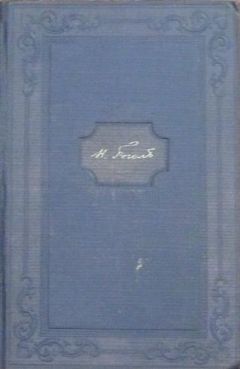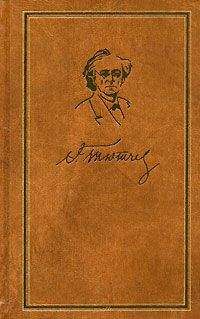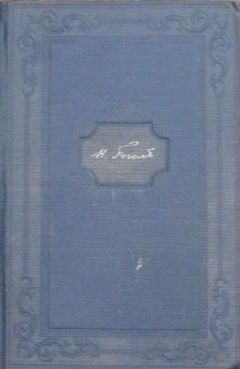Федор Тютчев - Том 4. Письма 1820-1849
Бедняжка прусский король: мне его искренне жаль, но король, которому кричали: <1 нрзб> и который предстал перед народом в том состоянии, в каком он находился, когда он захотел обратиться к бунтовщикам и его пришлось поддерживать под руки, чтобы он смог выйти на свой балкон, мне кажется, не имеет будущего*. — В конце концов, одному Богу известно — возможно, в ту минуту, когда я пишу к вам, уже многое разрешилось.
А что с нашими несчастными австрийскими бумагами после венского взрыва, унесшего князя Меттерниха*, о чем вы, вероятно, узнали на следующий день после того, как писали ко мне? Я перевела сюда остаток моего небольшого счета у Ротшильда. Исходя из 57 за один рубль серебром, это должно составить 4863 рубля, которые я хочу поместить в банк или перевести в русские ценные бумаги. Почему все наше состояние не здесь и почему я раньше не послушалась мужа, который с самого начала года не уставал повторять и мне и многим другим неверующим, что кризис неминуем. Надо отдать ему должное — он выказал, особенно за последние несколько месяцев, поистине поразительную проницательность. Однако он чрезвычайно взволнован и огорчен происходящим, гораздо сильнее, чем те, для кого события стали совершенно неожиданными.
Сразу после получения известия об отречении Луи Филиппа и провозглашении республики* я написала Эйхталю с просьбой позаботиться о спасении моего состояния от полного крушения. Со дня на день ожидаю ответа, но думаю, что стремительный ход событий вынудил его отказаться на время от решительных операций и выжидать. Но чего он дождется? Чего мы все дождемся?
Я адресую это письмо во Франкфурт, куда, я полагаю, вы должны приехать почти одновременно с ним, если вы все же осуществите свои планы и покинете Париж в начале апреля.
Пишите нам подробно о положении за пределами Парижа, о положении в городах, через которые вы будете проезжать! Побольше подробностей, прошу вас, милый друг, ваши письма читаются с жадностью не только нами, но и некоторыми нашими близкими знакомыми, способными их оценить. Предпоследнее письмо* мне подали вечером, и оно доставило удовольствие целому кружку, собравшемуся у одного из самых близких наших друзей; среди прочих там находилась графиня Нессельроде.
Похоже все же, что виконт не принял республику и устремится в Мюнхен*. Я огорчена за вас и мне бы хотелось, чтобы он выбрал другое убежище от натиска бурь. Тысяча нежностей вашей жене и милым детям. Обнимаю вас всем сердцем и душой. Э. Тютчева
Рукой Ф. И. Тютчева:
Что можно сказать, любезный друг, в такую минуту? Нужно умолкнуть и восславить карающую Руку, которая на этот раз столь явно показалась из облаков… С нашей человеческой точки зрения, вот что следует с ошеломляющей очевидностью из того, при чем мы присутствуем: Революция, последнее слово ложной в своих основах цивилизации, которую нам хотелось считать болезнью роста, является на самом деле раковой опухолью. Можно ли надеяться ограничить губительные последствия ценой пусть даже самой жестокой операции или ею поражена уже вся кровяная масса? Вот вопрос, который будет решен в течение нескольких недель. Что касается, в частности, до России, вопрос заключается в следующем: Революция, являющаяся для Запада болезнью, подтачивающей его изнутри, по отношению к России представляет собой материального и вполне ощутимого врага, угрожающего не только ее душе, но и самому ее существованию, который, говоря одним словом, хочет ее разрушения, как хотел этого в свое время великий Наполеон. И в этом Революция совершенно последовательна, она прекрасно усвоила, что между нею и нами идет бой не на жизнь, а на смерть*. Vita Caroli — Mors Conradini.[32]
Один из противников должен решительно уступить место другому. Сумеет ли теперь Революция подавить раздирающую ее анархию, преобразовать ее в вооруженное регулярное войско и отправиться в крестовый поход против нас? Бросит ли она на нас вновь весь Запад, как в 1812 году? Вот что должно обнаружиться в ближайшие дни. В случае нападения, смею утверждать, мы с Божией помощью защитимся, как и в 1812 году. Если же, напротив, анархия решительно возобладает в Европе, мне бы хотелось верить, что мы окажемся не скажу достаточно мудрыми, но достаточно почтительными по отношению к Провидению, чтобы не вторгаться в Его решения… Нет, конечно, на этот раз мы не допустим постыдной глупости, добиваясь реставрации, рассчитывая договориться с Революцией…
Не могу выразить, как мне жаль бедную Германию. Ах, несчастная страна, как она старается отомстить нам за нелепую неблагодарность, которую она допустила по отношению к нам*. — И все же я не теряю надежды на ее будущность.
Вяземскому П. А., март 1848*
Ce vendredi
Votre livre, mon Prince, m’a procuré une véritable jouissance. Car c’en est une très réelle que de lire un livre européen écrit en russe, un livre où l’on entre, p<our> a<insi> d<ire>, de plain-pied en arrivant d’Europe, tandis que dans la règle, en abordant presque tout ce qui se publie chez nous, on a toujours quelques marches à descendre.
Et cependant c’est parce que votre livre est européen qu’il est éminemment russe. Le point de vue où il se place, est le clocher d’où l’on découvre la ville. Le passant dans la rue ne la voit pas. La ville, comme telle, n’existe pas pour lui. Voilà ce que ne veulent pas comprendre tous ces Messieurs qui s’imaginent faire de la littérature nationale, en se noyant dans le détail. Le plus grand succès que l’on puisse désirer non pas à votre livre, mais au public qui le lira, c’est qu’il sache lire ce qui s’écrit entre les lignes. Quand il en sera là, il sera déjà bien avancé.
Un bien grand inconvénient de notre position c’est cette obligation où nous sommes d’appeler du nom d’Europe un fait qui ne devrait jamais s’appeler que par son propre nom: la Civilisation. Voilà où est la source pour nous d’interminables erreurs et d’inévitables équivoques. Voilà ce qui fausse toutes les idées parmi nous… Au reste, je me persuade de plus en plus, que tout ce que l’imitation pacifique de l’Europe a pu faire, a pu donner, nous l’avons déjà. C’est assez peu de chose après tout. Cela n’a pas brisé la glace. Cela n’a fait que la recouvrir d’une mousse qui simule assez bien la végétation. Maintenant nul progrès réel n’est possible que par la lutte. Voilà pourquoi cette hostilité qui se déclare contre nous en Europe est, peut-être le plus grand silence qu’elle pût nous rendre. C’est quelque chose de tout à fait providentiel.
Il fallait cette hostilité, de jour en jour plus déclarée, pour nous faire à rentrer en nous-mêmes, pour nous obliger à nous comprendre*. Or, pour la société, comme pour l’individu la première condition de tout progrès, c’est de se comprendre. Il y a, je sais, parmi nous des gens qui disent qu’il n’y a rien en nous qui vaille la peine d’être compris. Si cela était, il n’y aurait plus qu’un parti à prendre, ce serait celui de cesser d’être, et ceci, je pense, n’est l’avis de personne.
Bonjour, mon Prince. Je vous réitère encore une fois tous mes remerciements. Comptez-vous aller ce soir chez Mad. Smirnoff?
Mille respects. T. Tutchef
ПереводПятница
Ваша книга, князь, доставила мне истинное наслаждение, ибо действительно испытываешь наслаждение, читая европейскую книгу, написанную по-русски, книгу, к чтению которой приступаешь, не спускаясь, так сказать, с уровня Европы, тогда как почти всё, что печатается у нас, как правило, стоит несколькими ступенями ниже.
А между тем именно потому, что она европейская, ваша книга — в высокой степени русская. Взятая ею точка зрения есть та колокольня, с которой открывается вид на город. Проходящий по улице не видит его. Для него город как таковой не существует. Вот чего не хотят понять эти господа, воображающие, что творят национальную литературу, утопая в мелочах. Наибольшего, чего можно пожелать — не вашей книге, а публике, которая будет ее читать, — это чтобы она сумела уразуметь то, что пишется между строк. Достигнув этого, она уже достигнет многого.
Очень большое неудобство нашего положения заключается в том, что мы принуждены называть Европой то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: Цивилизация. Вот в чем кроется для нас источник бесконечных заблуждений и неизбежных недоразумений. Вот что искажает ваши понятия… Впрочем, я более и более убеждаюсь, что всё, что могло сделать и могло дать нам мирное подражание Европе, — всё это мы уже получили. Правда, это очень немного. Это не разбило лед, а лишь прикрыло его слоем мха, который довольно хорошо имитирует растительность. Теперь никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы. Вот почему враждебность, проявляемая к нам Европой, есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать. Это, положительно, не без промысла.
Нужна была эта с каждым днем все более явная враждебность, чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы заставить нас осознать себя*. А для общества, так же как и для отдельной личности — первое условие всякого прогресса есть самопознание. Есть, я знаю, между нами люди, которые говорят, что в нас нет ничего, что стоило бы познавать. Но в таком случае единственное, что следовало бы предпринять, это перестать существовать, а между тем, я думаю, никто не придерживается такого мнения.
Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Рассчитываете ли вы отправиться сегодня вечером к госпоже Смирновой?